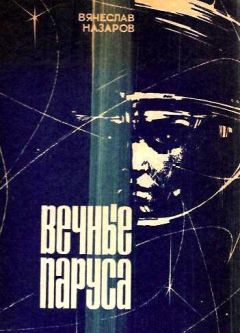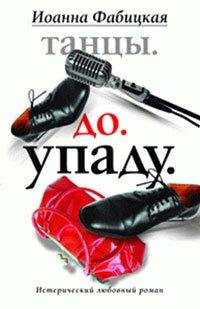Кружка воды
Двадцать дней позади —
четверо в океане —
двадцать девять дней впереди…
Вал
идет
окаянный!
Слышишь,
плывут
прощальные звоны
русских берез, полей —
это варятся ребра гармони,
песня бурлит в котле.
Жажда…
Даже сигнал спасенья:
Пи —
пи —
пить…
— Ребята,
нынче мой день рожденья.
Ребята, хочется жить…
Ему подносят полную кружку,
а в кружке
небо
кружится,
кружится.
Вода у губ воспаленных плещется,
речная вода,
крутая,
шепчет о чем-то,
струится,
светится,
захлебываясь,
обнимая.
В солнечных жилках
сквозные отмели.
Вода,
пропахшая осенью.
Вода…
Непонятное чудо —
вода.
Плывешь,
течению себя отдав.
Плывешь…
Глаза залепило солнцем.
— Толька-а-а, плыви сюда!
А-а-а-а…
в бесконечности отзовется.
Нырнешь, наливаясь звоном,—
блестят пузырьки
на корнях зеленых.
Где солнце едва
на дно просочилось —
раздвигаешь руками зеленые сны.
А-а-а…
Кружилось небо,
кружилось…
— Толька,
ты что?
Очнись…
И он очнулся,
и слабой рукой
отодвинул солдатскую кружку
с небом вертящимся,
с нормой двойной!
«В окно ползет осенняя вода»…
В окно ползет осенняя вода.
А я хочу
упасть в твои колени!
В такую ночь
острее, чем звезда,
неповторимость каждого мгновенья.
Мне жаль, что ты сегодня не придешь
к фанерной будке старого яхт-клуба,
и этой гулкой ночи не поймешь,
и не уснешь на парусине грубой.
Мы никогда б так не были близки
в огромном мире,
скрученном ветрами,
где, к счастью,
есть еще и чудаки,
которых называют дураками.
Привычный досаафовский уют:
канаты,
весла,
гички тень косая.
На хвойных лапах запахи ползут.
Поет вода о вечном…
Засыпаю.
Меня разбудит утром тишина,
и как-то вдруг по-новому предстанет
из мокрого разбитого окна
законченность реальных очертаний.
Я не могу
ничем
тебе помочь,
хотя ведь ничего и не случится —
простая ночь,
прощающая ночь
уйдет
и никогда не повторится.
«Кому и за кого мещане молятся?»…
Кому
и за кого
мещане молятся?
Сгибает ветер лезвие огня.
Быть может,
за распятых
комсомольцев?
Быть может,
за беспутного
меня?
Ни дьявола у них,
ни бога
нету!
Сменили веру.
Изменили тон.
Напакостили,
сволочи,
на этом,
теперь красиво
просятся на тот…
«Не верится, что вот над этой крышей»…
Не верится,
что вот над этой крышей,
плутая в голых зарослях антенн,
кружатся сотни голосов
неслышных,
неслышных сотни плавают сирен.
Подумать странно —
вот над этой крышей
летят живые голоса Парижа.
Оледенел.
Напрягся до предела.
Пучком антенны волосы торчат:
плывут мелодии Венесуэлы
и бубны Кубы
яростно стучат.
Откуда-то,
уже почти из гроба,
морзянка бьет тропическим ознобом.
А может, это холод?
На рассвете
кому-то в двери достучит она
и в трижды штемпелеванном пакете:
«При исполненьи…»
Вскрикнет тишина.
Лишь на мгновенье.
Только на мгновенье.
И вновь бездумность синевы
сквозной,
как будто в этой радостной вселенной
ни подлостью не пахнет,
ни войной,
как будто не разбита на участки
двадцатого столетья
тишина.
Ее сердца простукивают часто:
— Ты не больна?
Ты снова не больна?
О тишина сквозной апрельской ночи,
тебя до дна прослушивает мир
сережкою,
у скважины замочной
от любопытства вспыхнувшей на миг,
ушами
чутких радиоприборов,
что ловят песни солнца в вышине…
Что, тишина, таишь ты:
счастье,
горе?
И с чем ты завтра
постучишь ко мне?
Я иду по земле!
Понимаете, как это здорово?
Лугом,
лесом пропахший,
пропетый отчаянным ветром,
легкий,
жаркий,
упругий,
тропою неторною
я иду по земле
в баскетбольных
истоптанных
кедах.
Я иду и смеюсь
от безумной,
пронзительной
радости,
что иду по земле
и когда-нибудь
вдруг упаду,
не дойдя до усталости,
подлости,
робости,
старости,
потому что иду и пою
у людей на виду!
В этом мире два полюса:
зла
и добра.
В этом мире два поезда
в райцентр Архара.
В окнах старой хибары
мелькают слова:
«Москва — Хабаровск»,
«Хабаровск — Москва».
Крутолобые мальчики —
жесткий вагон —
выбегают на маленький
скользкий перрон.
Злые,
сонные
мальчики
пиво теплое пьют
и картошку горячую
у торговок берут.
И уносятся,
гордые,
на Иман,
на Кухтуй,
им колеса нелегкое
счастье куют.
Эти мальчики дерзкие
бескорыстья полны.
Снятся,
снятся им детские
бесплацкартные сны.
Снятся посвисты, бульканье
вот я — весна! —
скрежет жести и бурная
ярость весла.
Курят в тамбурах
мальчики —
носят в пригоршнях
свет.
Вспоминают о девочках,
что остались в Москве.
Этот край дремуч,
что ни сопка —
ключ,
а в ключах-ручьях
косяками,
потоками,
серебристыми токами —
форель,
форель —
голубое сало…
Ахнули
и загудели скалы!
Стрекотнул
и замер сучкорез.
Из тайги
проложенной дорогою
хлынул лес…
Потоки «МАЗов» хлынули
в синеву прогорклую,
продроглую,
древесинную…
Поплыли
распадины,
скосы,
виржи.
— Размечтался, черт,
держись!
И трещат натянутые тросы,
и летят фуфайки под колеса.
Солнце опускается.
— Пошла-а!
А когда
вылезет
ночь из дупла,
от мошки завернувшись в дым,
слушай картавую речь воды!
В сорок глоток:
— Шпарь!
Шпарь!
Шпарь!
Вздрагивают булки и бутылки,
ходят руки,
оседают гулко
клавиши просмоленные
шпал.
Мы глядим на зори полосатые,
что мелькают рыбьим косяком,
мы питаемся
перед зарплатою
манной кашею
и кипятком.
— На Север!
На Север!
И —
палубой качается полка,
и движется сейнер
в тумане колком.
На Север!
На Север!
Весна спешит на Север.
Зелеными
гремучими
ручьями
летят составы юности моей…
— Кому печенье «Север»?
Есть папиросы «Север»!
Она стоит в проходе
с корзиночкой своей…
А за окном просторы
моей огромной Родины,
а за окном березы,
березы в черных родинках.
А девушке взгрустнулось —
и счастье, и призванье,
все службой обернулось
в дорожном ресторане.
И хоть она в движенье
от нас неотделима,
плывут березы мимо,
и жизнь,
и счастье мимо.
Но вот опять улыбка
над манной,
над чаями,
над спорами —
Пикассо,
Ремарк,
Хемингуэй..
На Север!
На Север!
Зелеными
гремучими
ручьями
летят составы
юности моей!