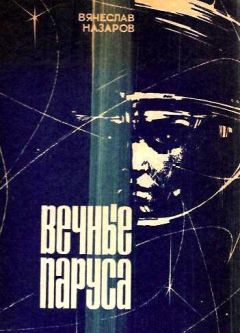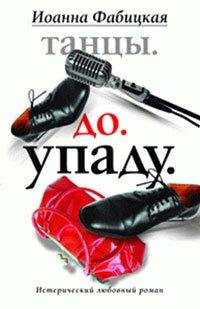Идут на север поезда
В сорок глоток:
— Шпарь!
Шпарь!
Шпарь!
Вздрагивают булки и бутылки,
ходят руки,
оседают гулко
клавиши просмоленные
шпал.
Мы глядим на зори полосатые,
что мелькают рыбьим косяком,
мы питаемся
перед зарплатою
манной кашею
и кипятком.
— На Север!
На Север!
И —
палубой качается полка,
и движется сейнер
в тумане колком.
На Север!
На Север!
Весна спешит на Север.
Зелеными
гремучими
ручьями
летят составы юности моей…
— Кому печенье «Север»?
Есть папиросы «Север»!
Она стоит в проходе
с корзиночкой своей…
А за окном просторы
моей огромной Родины,
а за окном березы,
березы в черных родинках.
А девушке взгрустнулось —
и счастье, и призванье,
все службой обернулось
в дорожном ресторане.
И хоть она в движенье
от нас неотделима,
плывут березы мимо,
и жизнь,
и счастье мимо.
Но вот опять улыбка
над манной,
над чаями,
над спорами —
Пикассо,
Ремарк,
Хемингуэй..
На Север!
На Север!
Зелеными
гремучими
ручьями
летят составы
юности моей!
Выворочены водоворотами —
вот мы!
Наши спины обстругали волны.
Наши плечи залудило солнце.
Наши скулы выточили ветры.
Молния —
кардиограммой сердца!
Всходят звезды,
на пути у нас
расставленные,
как ладошки наших женщин
растопыренные.
Дребезжат
бутылки
в каютах.
Рыба палубу царапает жабрами.
Мокрые узлы на канатах —
это наши рукопожатия!
А когда мы сушимся на суше,
словно рыбины пойманные, немы,
чешуей стреляем раковинам в уши,
задыха…
задыхаемся от гнева.
Мы хохочем над баржами
над важными,
что растрепанную воду
разглаживают.
Мы ворочаем тяжелую воду.
Волокем ее,
взбитую, как сливки.
Выгребаем красноперые колоды.
Из ячеек вытряхиваем слитки.
Мы идем,
в песок вбивая ноги.
Словно весла,
блещут наши руки.
Мы заказываем
по бутылке пива
и закусываем колбасой.
Ни трески, ни крабов мы не любим,
потому что мы их в море ловим!
«За тыщи верст плеснула щука»…
За тыщи верст плеснула щука,
а в мокрых зарослях,
впотьмах,
крапивой обжигая щеки,
желанье борется и страх.
Я вздрагиваю:
ливень буйно
ударил в белую кору.
Три месяца живу, как будто
через минуту я умру.
Гляжу на глину, жесть и воду,
как будто вижу в первый раз!
На ощупь!
Сквозь полыни одурь!
Сквозь ливня заросли!
И вниз!
Обрывами.
Ах, Ленка, Ленка…
Лежу, свищу, бреду в бреду.
В бездумье мокрая травинка
колышет сонную звезду.
Как перед вечною дорогой —
ни суматохи,
ни заботы,
лишь беспричинная тревога
и ожидание чего-то…
«В тугих капронных волоконцах»…
В тугих капронных волоконцах
под чей-то хрип:
— Нажми!
Еще! —
метнулось пойманное солнце
и в лодку плюхнулось лещом.
Лещи ворочаются глухо.
Весь в складках,
в пене,
в пузырях
залив раскачивает брюхо,
и сполохи стоят в сетях.
Но вот —
знакомая излука.
Мы возвращаемся домой.
Мы долго вытираем руки
хрустящей
ледяной
травой!
«Туманы над селом Туманы»…
Туманы над селом Туманы,
над Гижигинскою губой.
В тумане
по косе песчаной
буксует
утренний прибой.
Вытягивается,
светлеет,
освобождаясь ото льда,
звенит,
от злобы сатанеет
и рушит выступы вода.
И отступает перед твердью.
Прибой!
Отбой —
Прибой!
Отбой…
И волны
падают
в бессмертье
вниз головой.
Над чаек бестолочью сизой
они взлетают на дыбы,
и катятся,
чтоб с новой силой
ударить
в каменные
лбы!
Мороз! И рядом хочется
поставить слово яблоко.
И что ни вдох —
оскомина!
И что ни выдох —
облако!
А солнце бьет по снегу.
В автобусы! Насквозь!
Клич над лыжней взмывается
мохнатым эхом. Ввысь!
Бегу и тело чувствую.
От радости — молчу.
Бегу и не выдерживаю —
и кричу!
Вверх
по откосу —
за шагом
шаг,
за плечи отбросив
ветра синий шарф.
Горит сияньем северным
мой норвежский свитер.
О синие ворсинки
трется
ветер.
И свитер мой
поет!
О! Это песня Сольвейг.
Да! Музыки полет!
Вот —
хором сосны.
С потоками борюсь.
Качаюсь, солнцем пьяный.
Бегу
и не боюсь,
что я бежать устану.
Как женщина
предчувствием
живого существа,
я наполняюсь музыкой
и жаждой естества!
Так надо! Не насилую,
не злю воображение.
Я просто слышу звуки
и верю их движению!
Первое впечатление о целине
Бензин и воду привезли из центра.
Наряды
рвет
чернильный карандаш.
На горизонте
белая цистерна
да одинокий сломанный камыш.
Масштабы непривычны,
и висок
стучит в степи, как холостой движок.
И мысли
непривычны
и дерзки,
как будто не твои,
но не признать не смеешь.
Сухие незнакомые жучки
ползут по нервам —
вздрогнешь и вспотеешь.
И воздух
осязаешь, словно воду,
в которую после работы входишь,
и ощущенье
тела
и свободы —
потрогать можешь,
если не поверишь.
Все непривычно.
Надо привыкать!
Но прежде
надо
все это
вспахать.
«Я устал от дорог и тревог!»…
Я устал от дорог и тревог!
У меня заржавели скулы.
Золотой кипяток-хохоток
разливаю в стаканы скупо.
Третьи сутки
на третьей полке —
высоте
своего
положения…
А в глазах —
котлованы, помпы,
частоколы дождей весенние.
Частоколы дождей качаются.
Я плечами
ломаю их.
Лесопункты,
райкомы,
чайные,
одурь заспанных проходных…
Где ты, девочка-полочаночка?
А усталость сильней берет,
и качаются сны
полосатые
от шлагбаумов и берез.
Нет, не молнию над прудом —
славлю я
материнский дом,
среди веснушчатых
бойких рощ,
в травяном,
в грибном окружении,
дом,
где можно любую вещь
передвинуть без разрешения.
…Чашка теплого молока.
Тихий шорох дождя в крапиве.
Заболеть бы
на два денька,
чтобы мать одеялом укрыла…
«Засыпает меня, засыпает»…