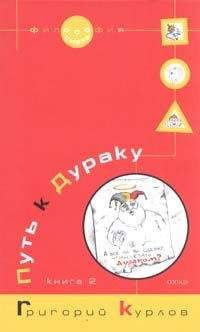Эллис
(Лев Львович Кобылинский)
Стихотворения
Эта моя книга, содержащая в себе произведения самого последнего времени, не представляет собой собрания отдельных, закрепленных в образы, разрозненных и самостоятельных лирических переживаний.
Во всей своей тройственной последовательности книга «Stigmata», на что намекает и самое название книги, является символическим изображением цельного мистического пути. Само собой очевидно, что самые главные основания и самые заветные субъективные устремления (пафос) автора ее касаются области, лежащей глубже так называемого «чистого искусства». Чисто художественная задача этой книги заключается в нахождении символической формы воплощения того, что рождалось в душе не непосредственно из художественного созерцания, а из религиозного искания.
Появление такой книги едва ли может озадачить или удивить именно в настоящее время.
Кризис современного символизма, уже приходящий к концу, является с самого начала лишь распадом так называемого эстетизма, т. е. того полуромантического, полудекадентического миросозерцания, которое, опираясь на иллюзию самоценности искусства и на ложный догмат аморализма, пыталось отождествить себя со всей областью символизма, с первых же шагов развития таившего в своих недрах неугасимый, священный огонь религиозного возрождения и великую идею синтетического искусства будущего, которое одно будет способно дать всей распадающейся нашей культуре безусловную религиозную санкцию и пробудить больную душу нашей расы к новому творчеству. Это обращение от эстетического иллюзионизма к мистицизму, говоря совершенно точно, — к христианству, внутри «современного символизма» является, быть может, самым существенным симптомом его развития, от Верлена и Гюисманса и до Роденбаха и Рильке. На этом пути неизбежно символизм приходит в интимную связь с священной символикой католицизма, над которой склоняется светлая тень величайшего из поэтов с его потрясающим благословением, тень Данте.
Эллис
Клеопатре Петровне Христофоровой
И ты, ослепшая от слез,
упала на пути,
и подошел к тебе Христос
и молвил: «Все прости!».
И кротко улыбнулся Он,
и улыбнулась ты,
и тихий свет и тихий сон
облек твои черты.
Душа, как келья, убрана,
светла, проста, чиста
и вся навек озарена
улыбкою Христа.
Там за окном звенит пчела.
качается сирень,
там за окном и свет и мгла,
а в келье вечный День…
И я бродил по всем путям,
и я ослеп от слез,
но не предстал моим очам
с улыбкою Христос.
И был мой горький путь — позор,
безумие и страсть.
И вот теперь пришел, как вор,
к твоим ногам упасть.
И вот иду на голос Дня
в твой дом, как в Божий дом…
«О, Боже, помяни меня
во Царствии Твоем!»
Кто это в сердце мне смотрит сквозь дым
взором и пламенным, и золотым,
саваном лик свой окутав седым?
Кто это льнет и маня, и клоня,
кто безобразные лики огня,
вдруг ускользнув, обратил на меня?
Под мановеньем незримым Врага
святость родного презрев очага,
кажет огонь языки и рога.
Пышет мне в очи и очи мне ест.
ржавчиной кроет пылающий Крест,
гасит мерцания меркнущих звезд.
Кто это вырос, качаясь в дыму,
горькую песню заводит про тьму,
сонную душу уводит в тюрьму?
Вот покачнулся, взметнулся, и вот
снова сплошною стеною плывет
снова плывет, и поет, и зовет…
Вижу, рога наклонились к рогам,
вспыхнувший пеплом распался Лингам,
тени, дрожа, побежали к ногам.
Внятно мне все и понятно в бреду,
знаю, что был я когда-то в Аду,
знаю и светлого знаменья жду.
Нерукотворным Крестом осенен,
облаком черным на миг затенен,
знаю я, знаю, что дым — только сон!
Вот расступается дыма стена,
в Крест сочетаясь, встают пламена.
вечная Роза над ним зажжена.
Сердце — лампада, а руки, как сталь,
призраки Ада уносятся в даль,
вихрем мне пламенный шепот: «Грааль!»
В белого дым превратился коня,
и на руках и ногах у меня
отпечатлились стигматы огня!
Å vederai color che son contend
nel foco, perche speran di venire,
quando che sia, a Ie beate genti.
A Ie quae poi se tu vorrai salire,
anima fia a do piu di me degna…
Dante. La Divina Commedia. Inferno (canto I, 118–122).[1]
Безумие, как черный монолит,
ниспав с небес, воздвиглось саркофагом,
деревьев строй подобен спящим магам,
луны ущербной трепетом облит.
Здесь вечный мрак с молчаньем вечным слит;
с опущенным забралом, с черным стягом,
здесь бродит Смерть неумолимым шагом,
как часовой среди беззвучных плит.
Здесь тени тех, кто небо оскорбил
богохуленьем замыслов безмерных,
кто, чужд земли видений эфемерных,
Зла паладином безупречным был;
здесь души тех, что сохранили строго
безумный лик отвергнутого Бога.
«Восстань! Сюда, сюда ко мне!
Прагрешница и Роза ада!»
Клингзор. «Парсифаль» Р. Вагнера.
Молюсь тебе, святая Роза ада,
лик демона твой каждый лепесток,
ты пламени кружащийся поток,
ты, Куидри, Иезавель, Иродиада!
Мечта де Рэ, Бодлера и де Сада,
ты зажжена, чудовищный цветок,
едва в песках земли иссякнул ток
утех невинных сказочного сада!
Ты — Лотоса отверженный двойник,
кто понял твой кощунственный язык,
тот исказит навеки лик Господний.
лобзая жадно твой багровый лик,
в твоих огнях сгорая каждый миг,
о, Роза ада, Солнце Преисподней!
Страшно!.. Колокол проклятый
мир оплакал и затих.
Ты со мной, во мне, Распятый,
Царь, Господь и мой Жених!
Тайно в сумрак тихой кельи
сходишь Ты, лучи струя,
в четках, черном ожерелье
пред Тобой невеста я.
Я, склонясь, оцепенела,
лучезарен лик святой,
но, как дым. прозрачно тело.
и ужасен крест пустой.
Я невеста и вдовица,
дочь Твоя и сирота,
и незыблема гробница,
как подножие Креста.
Я шепчу мольбы Франциска.
чтоб зажегся, наконец.
ярче солнечного диска
надо мною Твой венец.
Веки красны, губы смяты,
но мольба звучит смелей,
возрасти на мне стигматы,
розы крови без стеблей!
. . . . . . . . . . . . . . .
То не я ль брела с волхвами
за пророческой звездой,
колыбель кропя слезами
возле Матери Святой?
То не я ли ветвь маслины
над Тобою подняла,
волосами Магдалины,
плача, ноги обвила?
В день суда и бичеванья
(иль, неверный, Ты забыл?)
Я простерлась без дыханья,
вся в крови, без слов, без сил.
То не я ли пеленала
пеленами плоть Христа,
и, рыдая, лобызала
руки, ноги и уста?
Там, в саду, где скрыл терновник
вход пещерный, словно сон,
Ты не мне ли, как садовник,
вдруг явился изъязвлен?
Вот лобзая язву Божью,
вся навеки проклята,
припадаю я к подножью,
чтобы Ты сошел с Креста.
Завтра ж снова в час проклятый
в нетерпимом свете дня
беспощадно Ты, Распятый,
снова взглянешь на меня!
Брачное ложе твое изо льда,
неугасима лампада стыда.
Скован с тобою он (плачь иль не плачь!)
Раб твой покорный, твой нежный палач.
Но, охраняя твой гаснущий стыд,
злая лампада во мраке горит.
Если приблизит он жаждущий взор,
тихо лампада прошепчет: «Позор!»
Если к тебе он, волнуясь, прильнет,
оком зловещим лампада мигнет.
Если он голову склонит на грудь,
вам не уснуть, не уснуть, не уснуть!
Злая лампада — то око мое,
сладко мне видеть паденье твое.
Сладко мне к ложу позора прильнуть,
в очи, где видел я небо, взглянуть.
Будь проклята, проклята, проклята,
ты, что презрела заветы Христа!
Заповедь вечную дал нам Господь:
«Станут две плоти — единая плоть!
Церковь — невеста, Я вечный Жених» —
страшная тайна свершается в них.
Брачное ложе твое изо льда,
неугасима лампада стыда.
Злую лампаду ту Дьявол зажег.
Весь озаряется мертвый чертог.
И лишь безумье угасит ее,
в сердце и в тело пролив забытье!