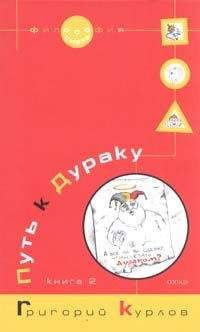Великий инквизитор
Простой сутаною стан удлиняя тощий,
смиренный, сумрачный — он весь живые мощи,
лишь на его груди великолепный крест
сверкает пламенем холодных, мертвых звезд.
Остыв, сжигает он, бескровный, алчет крови,
и складка горькая легла на эти брови.
И на его святых, страдальческих чертах
печать избранника, отверженника страх;
ему, подвижнику, вручен на труд великий
огонь светильника святого Доминика,
и уготована божественная честь,—
он весь — спокойная, рассчитанная месть.
Плоть грешников казня, он голубя безгневней,
он Страшного Суда вершит прообраз древний.
И мановением державного жезла
он всю Вселенную испепелит дотла.
Хоть, мудрый, знает он, что враг Христа проклятый
наложит черные и на него стигматы,
и братии тысячи сжигая, знает он,
что много тысяч раз он будет сам сожжен.
Запечатлев в веках свой лик ужасной славой,
ждет с тайной радостью он свой конец кровавый.
И чтит в себе свой сан высокий палача
и дланью Господа подъятого бича.
Ступени алтаря отдав безумно трону,
он посохом подпер дрожащую корону,
но верный раб Христов, Господен верный пес
всех им исторгнутых он не залижет слез.
Он поборол в себе все страсти, все стихии,
песнь колыбельная его: «Ave Maria!..»
О, да, он был другим, над ним в часы скорбей
парили Ангелы и стаи голубей,
он знал блаженство слез и кроткой благостыни,
мир одиночества и голоса в пустыне,
когда ему весь мир казался мудро-прост,
когда вся жизнь была молитва, труд и пост.
И зароненные рукой Пречистой Девы
в его душе цвели нетленные посевы;
когда его простым словам внимали львы,
склонив мечтательно роскошные главы;
он пил, как влагу, звезд холодное мерцанье,
он ведал чистые восторги созерцанья.
Благословляя все, он, как Франциск Святой,
был обручен навек лишь с Дамой Нищетой.
И он вернулся к нам… С тех пор ему желанно
лишь «Откровение» Святого Иоанна.
И вот, отверженный, как новый Агасфер,
он в этот мир низвел огонь небесных сфер.
И вот за Бога мстя, он мстит, безумец, Богу,
пытаясь одолеть тревогою тревогу.
Но злые подвиги, как черных четок ряд
обвили грудь его, впиваются, горят.
Над ним поникнул Крест и в нем померкла Роза,
вокруг зиянье тьмы, дыхание мороза,
и день и ночь над ним безумствует набат
и разверзается неотвратимый Ад!..
Люблю тебя, отверженный народ,
зову тебя, жестокий и лукавый!
Отмети врагам изменою за гнет…
В столетиях влачишь ты след кровавый.
На грани меж разверстых двух миров,
то Дьяволом, то Богом искушаем,
ты жил в аду, лишь разлучился с раем,
ты ведал пытки, ужасы костров.
Ты избран был велением Ягве,
ты созерцал полет тысячелетий,
венец созвездий на твоей главе,
перед тобой не боле мы, как дети…
Проклятия ты небу воссылал,
перед тобой склонялись все народы,
столп пламени перед тобой пылал
и расступались вспененные воды.
Твой страшный лик постигнул до конца
сверхчеловек— и в ужасе, бледнея.
ударами всевластного резца
вдруг изваял рогатым Моисея.
В твоих сынах не умер Соломон,
пусть на тебе столетий паутина,
тебя зовет бессмертный твой Сион,
забытых дней волшебная картина!
Еще живут в устах твоих сынов
горячие, гортанные напевы,
и, опаленные пустыней, девы
еще полны роскошных, знойных снов.
В объятиях любви сжигать умея,
они живут и царствуют в мечтах;
лобзание язвительного змея
еще горит на пурпурных устах!
На их кудрях гремящие монеты
прекрасней всех созвездий и луны;
как гром тимпанов, песни старины,
пусть в наши дни прославят их сонеты.
Пусть блещет ад в сверканье их зрачков!..
Их взор. что звал к полуденной истоме,
угас во тьме, под тяжестью оков,
на торжище, в тюрьме, в публичном доме!
Израиль жив! — Бродя в песках пустыни,
ты изнывал, сгорал, но не угас,
и кажется, что, словно тень, доныне
твой Агасфер блуждает между нас!
Былых веков безжизненные груды
не погребли твоих счастливых дней…
Еще ты жив, тысячелетий змей,
дари же нам лобзание Иуды.
Мятежник, богоборец дерзновенный,
предав, ты бога лобызал в уста,
мы все Христом торгуем ежедневно,
мы распинаем каждый миг Христа!
Словам любви ты, мудрый, не поверил
и яростно кричал: — «Распни, распни!..»
Но ты, молясь, кляня, не лицемерил,
как лицемерим все мы в наши дни!
Истерзанный, осмеянный врагами,
ты, отданный и пыткам и бичам,
в стране теней, засыпанной снегами,
свободу дашь своим же палачам!..
Один закон безмерного возмездья
о, начертай на знамени своем,
еще ты жив… святой вражды лучом
воспламени угасшие созвездья!
Из мертвых скал неистовым ударом
вновь источай в пустыне пенье вод,
и столп, что вел к свободе твой народ,
пусть вспыхнет в сердце мировым пожаром.
«Oro supplex ei acclinis,
Cor conlritum quasi cinis:
Cere curam mei finis!»
Requiem, Confutatis.
Познав все нищенство земных великолепий,
Мы вместе тешились чудовищной игрой…
Мы откровение искали в тихом склепе,
Нам проповедовал скелетов важный строй…
Мудрей что может быть?.. Что может быть нелепей?..
Мой взор прикован был старинною гравюрой,
и был семнадцатый на ней означен век…
Готических окон чуть брезжил сумрак хмурый
в тот час, когда планет медлительный разбег,
и первый, бледный луч, блуждая за решеткой,
на каменной стене, черневшей, словно снег
на людной улице, отбросил контур четкий,
зловеще удлинив рогов оленьих тень, —
и все двоилось там, меж окон посередке,
везде, склонив рога. являлся мне олень.
Все уносило там мечту к средневековью,
вкруг знаки странные читал пугливый день,
и человеческой, горячей пахло кровью…
Странным склепом мне казался тихий зал,
и надпись, что была расписана с любовью,
мой изумленный взор с усильем разобрал:
«Museum anatomicum, instrumentale»…
Когда б со мною там, о Фауст, ты стоял,
безгласным навсегда не стал бы ты едва ли!..
Не знаю, был то бред, иль страшный призрак сна,
но дыбом волосы от слов ужасных встали…
Их черный доктор сам, Владыка-Сатана,
казалось, начертал… Забилась грудь в тревоге.
а в страшном зале том царила тишина,
и были те слова неотвратимо-строги!
Но скоро разум мой с испугом совладал
(лишь в первом приступе бываем мы убоги!..)
И даже нравиться мне начал страшный зал.
Передо мною шкаф массивный возвышался,
и в нем коллекцию ножей я увидал,
нож каждый нумером своим обозначался,
блестящих циркулей и много острых пил
в шкафу увидев том, я много изумлялся
и, наконец, свой взор тревожно отвратил…
О если б в этот миг. конец вещая света,
Архангел надо мной нежданно вострубил,
я б меньше трепетал в день судного ответа!
Казалось, надо мной глухой качнулся свод,
направо от меня два чахлые скелета
жевали яблоко, кривя и скаля рот,
меж яблони ветвей, злорадно извиваясь,
висел проклятый змей, сгубивший смертный род,
налево от меня, виясь и изгибаясь,
две балюстрады вкруг тянулись, у стола,
где был раскинут труп, нежданно обрываясь.
И был он весь обрит, и кровь с него текла,
по камням медленно струясь и застывая,
как стынет в сумерках горячая смола.
В меня стеклянный взор вперив и не моргая,
застыл кровавый труп в ужасной наготе.
все ткани, мускулы и нервы обнажая.
Казалось мне, что был он распят на кресте…
раскинуты его. я помню, были руки…
О, если бы на миг забыл я руки те!..
Казалось, морщили еще все тело муки…
Как будто заживо он здесь изрезан был,
и замерли совсем недавно воплей звуки…
Я: полный ужаса, над мертвецом застыл,
не в силах оторвать от глаз стеклянных взора,
и мнилось, что живой с умершим говорил.
Никто досель не вел такого разговора!..
А вкруг скелеты птиц, и гадов, и зверей
(О, этот адский сонм я не забуду скоро!..)
толпились, словно рать воскреснувших костей.
Ты зрел ее, пророк, бесстрашными очами,
когда Господен зов достиг души Твоей!..
В кортеже дьявольском недвижными рядами
сидели Чудища, и свет, скользя в окно,
удвоил их ряды гигантскими тенями!..
Скелеты важные, истлевшие давно,
застыли вкруг меня в движеньях всевозможных!..
И было каждому по знамени дано.
О ты, страшнейшая из грез моих безбожных,
о нет, тебя родил не смертный ум, сам ад!..
Не знает только он в веленьях непреложных
ни сострадания, ни страха, ни преград!..
На каждом знамени иссохшего скелета
немые надписи читал смятенный взгляд,
на языке, что стал давно владыкой света.
Гласила первая: «Nos summus — umbra!..» Там,
за ней тянулася еще, прося ответа: —
«In nobis nosce te!..» За ней еще очам
явилась страшная и вечная загадка:
«Mors — rerum ultima est linea!..» Но сам,
от страха трепеща, я все ж прочел украдкой:
«Mors sceptra omnia ligonibus aequat!..»
Как надпись ту прочесть в тот миг мне было сладко!
«Nascentes morimur!» прочел на третьей взгляд…
Ее держал скелет оскаленный ребенка;
когда же взор отвел в смущенье я назад,
мне вдруг почудилось, что он хохочет звонко.
Но все сильней заря пылала, и в окне
плясал пылинок рой, решетки контур тонкий
яснел на каменной, заплесневшей стене;
я снова бросил взор на мертвеца немого,
и мысль безумная тогда предстала мне
(Хоть выразить ту мысль теперь бессильно слово!..)
В его чертах я вмиг узнал свои черты
и весь похолодел от вихря ледяного…
— «Чего дрожишь? Ведь мы — одно, и я, и ты!»
Казалось, говорил мне труп недвижным взглядом
и звал меня, презрев пугливые мечты,
на этот страшный стол возлечь с собою рядом.