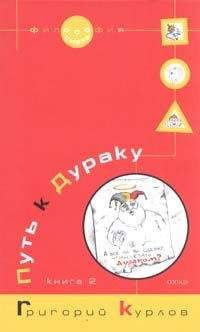Римской проститутке
Твой узаконенно-отверженный наряд —
туника узкая, не медленная стола,
струями строгими бегущая до пят,—
но ты надменный взгляд
роняешь холодно, как с высоты престола.
Весталка черная, в душе, в крови своей
зажегшая огни отверженной святыне,
пускай без белых лент струи твоих кудрей.
Не так ли в желтой тине,
киша. свивается клубок священных змей?
Когда ты возлежишь в носилках после пляски,
едва колышима, как на водах в челне,
небрежно развалясь, усталая от ласки,
вся — бред восточной сказки,
прекрасна ты и как понятна мне!
Прикрыв кокетливо смешной парик тиарой,
Цирцея. ты во всех прозрела лишь зверей:
раб, гладиатор, жрец, поэт. сенатор старый
стучатся у твоих дверей,
равно дыша твоей отравою и чарой.
Пусть ты отвергнута от алтарей Юноны,
пускай тебе смешон Паллады строгий лик,
пускай тебе друзья продажные леноны,
твой вздох, твой взор, твой крик
колеблет города и низвергает троны.
Но ты не молишься бесплодным небесам,
богам, воздвигнутым на каждом перекрестке!
Смотри, во всем тебе подобен Город сам:
свободу бросив псам,
как ты, он любит смерть и золотые блестки!
К меняле грязному упавшая на стол,
звезда, сверкай, гори, подобная алмазу,
струи вокруг себя смертельную заразу
патрицианских стол,
чтоб претворилась месть в священную проказу!
Венера общих бань, Киприда площадей,
Кибела римская, сирийская Изида,
ты выше всех колонн, прочней, чем пирамида;
богов, зверей, людей
равно к себе влечет и губит авлетрида!
Пускай с лобзания сбирает дань закон,
и пусть тебя досель не знают ценза списки,
ты жрица Города, где так же лживо-низки
объятия матрон,
и где уж взвешен скиптр, и где продажен трон!
Не все ль мы ждем конца? Не все ли мы устали —
диктатор и поэт, солдат и беглый раб —
от бесконечных тяжб и диких сатурналий?
На каждом пьедестале
из теста слепленный уж вознесен Приап!
Рабыня каждого, мстя каждому жестоко,
ты поражаешь плод во чреве матерей,
ты в язвы Запада вливаешь яд Востока,
служа у алтарей
безумья до конца, бесплодья и порока.
Но вот уж близится Креста Голгофы тень,
раба, ты первая падешь к Его подножью,
благоухающих кудрей роняя сень,
лобзая ногу Божью,
и станет первою последняя ступень!
(При переводе «Цветов зла» Ш. Бодлера)
В пасмурно-мглистой дали небосклона,
в бледной и пыльной пустыне небес,
вдруг, оросив истомленное лоно,
дождь возрастил экзотический лес.
Мертвое небо мечтой эфемерной
озолотила вечерняя страсть,
с стеблем свивается стебель безмерный
и разевает пурпурную пасть!
В небо простерлось из гнилости склепной
все, что кишело и тлело в золе,—
сад сверхъестественный, великолепный
призрачно вырос, качаясь во мгле.
Эти стволы, как военные башни,
все досягают до холода звезд,
мир повседневный, вчерашний, всегдашний
в страшном безмолвьи трепещет окрест.
Тянутся кактусы, вьются агавы,
щупальцы. хоботы ищут меня,
щурясь в лазурь, золотые удавы
вдруг пламенеют от вспышек огня.
Словно свой хаос извечно-подводный
в небо извергнул, ярясь, Океан,
все преступленья в лазури холодной
свив в золотые гирлянды лиан.
Но упиваясь игрой неизбежной,
я отвратил обезумевший лик.—
весь убегая в лазури безбрежной,
призрачный сад возрастал каждый миг.
И на меня, как живая химера,
в сердце вонзая магический глаз,
глянул вдруг лик исполинский Бодлера
и, опрокинут, как солнце, погас.
Dies irae, dies ilia
Solvei saeculum in favilla
Tesles David ei Sibilla!
День суда и воздаянья
в прах повергнет мирозданье.
То — Сибиллы предвещанье.
Что за трепет в души снидет
в час, как Судия приидет,
все рассудит, все увидит.
Пробужденный трубным звоном,
бросит мир свой гроб со стоном
и, дрожа, падет пред троном.
Смерть сама оцепенеет,
Тварь, восставши, онемеет.
Кто ответ держать посмеет?
В вещей хартии Вселенной
снова узрит мир смятенный
каждый миг запечатленный.
Судия воссядет в славе,
все, что в тайне, станет въяве,
всем воздать Он будет вправе.
Что реку в тот час у трона?
В ком найду себе патрона?
Лишь безгрешным оборона!
Царь, меня в тот день проклятий
сопричти к блаженных рати,
о источник благодати!
О, не я ли безрассудный
влек Тебя стезею трудной?
Не покинь раба в День Судный!
Ты за наше искупленье
шел на крест и посрамленье!
Этим мукам нет забвенья.
Я молю, тоской объятый,
Судия и Царь, раба Ты
отпусти до дня расплаты!
О, Господь и Царь верховный!
Возрыдал я, столь греховный,
рдеет кровью лик виновный.
Ты, Марию оправдавший,
на кресте злодею внявший,
укрепи мой дух отпавший!
Эти крики дерзновенны,
Ты же, благостный, смиренный,
вырви дух мой из геенны!
Да от козлищ отойду я,
да средь агнцев обрету я
жребий, ставши одесную!
Низвергая осужденных,
острым пламенем зажженных,
дай мне быть среди блаженных!
Приими мой дух истлевший,
изболевший, оскудевший,
в час последний оробевший!
Слезным День тот Судный станет,
как из праха вновь воспрянет
человек, но в час отмщенья,
Боже, дай ему прощенье,
Иисус и Царь благой,
вечный дай ему покой!
E cantero di quel secondo regno,
dove I'umano spirto si purga
e di salire al del diventa degno.
Dante, La Divina Commedia, Purgatorio (canio 1, 4–6)[3]
Я черных душ вожатый бледный,
я пастырь душ, лишенных крыл,
я, призрак смутный и бесследный,
лишь двери Рая им раскрыл.
Здесь душ блаженных вереница
течет, как звезды, предо мной,
и падших душ, укрывших лица,
стеня, влечется хмурый строй.
Моя стезя одна и та же
от дня творенья до Суда,
за веком век, за стражей стража,
но я бессменен навсегда.
Я — путь к блаженствам, но неведом
моим очам Господен Град,
и душ стада за мною следом
нисходят в мой незримый Ад.
Я никогда не поднимаю
всегда спокойного чела,
и с мглой Преддверия сливаю
два серые мои крыла.
Я тенью гор столетья мерю,
как тенью солнечных часов,
не вопрошая, внемлю зов,
все зная, ничему не верю!
Мне высь полета незнакома;
мне посох дан взамен меча,
я им стучу у двери дома,
и гаснет робкая свеча.
Схимница юная в саване черном,
бледные руки слагая на грудь,
с взором померкшим, поникшим, покорным.
Ночь совершает свой траурный путь.
Гаснут под взором ее, умирая,
краски и крылья, глаза и лучи,
лишь за оградой далекого Рая
внятней гремят золотые ключи.
Строгие смутны ее очертанья:
саван широкий, высокий клобук,
горькие вздохи, глухие рыданья
стелются сзади за нею… но вдруг
все ее очи на небо подъяты,
все мириады горящих очей,
блещут ее золотые стигматы,
в сладком огне нисходящих мечей.
Кровоточа, как багровая рана,
рдеет луна на разверстом бедре.
Там в небесах по ступеням тумана
Ангелы сходят, восходят горе.
Боже! к Тебе простираю я длани,
о низведи сожигающий меч,
чтобы в огне нестерпимых пыланий
мог я ночные стигматы зажечь!