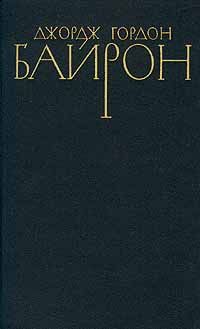Повесть
В доменах Лары празднует народ;
Почти забыт рабами ленный гнет;[1]
Их князь, кто с глаз исчез, не из сердец,
Самоизгнанник, — дома наконец!
Сияют лица, замок оживлен,
Стол в кубках весь, на башнях зыбь знамен;
Уютный свет кидая вдоль долин,
Вновь сквозь витражи заиграл камин;
И веселы вассалы у огня:
Глаза горят, грохочет болтовня.
Вернулся Лара в замок родовой,
Но для чего он плыл в простор морской?
Лишась отца, юн, чтоб сознать ущерб,
Сам властелин, он, взяв наследный герб,
Взял страшную и горестную власть,
Что лишь покой у сердца может красть.
Кто мог сдержать его? И мало, кто б
Успел внушить, что сотни торных троп
Путь к преступленью. Правил он тогда,
Когда юнцу всего нужней узда.
Что нам следить за шагом шаг тот путь,
Где молодость его могла мелькнуть?
Был краток путь для буйства юных сил,
Но все ж в конце он Лару надломил.
И юный Лара кинул край родной;
И лишь, прощаясь, он махнул рукой,
Исчез и след его, и, день за днем,
Все перестали вспоминать о нем.
Отец его скончался, он пропал,
Вот все, что мог любой сказать вассал.
Исчез безвестно. Не погиб ли он?
Все равнодушны, мало кто смущен:
Звук имени его, средь гулких зал,
Где мерк его портрет, не пролетал;
С другим невеста скрасила судьбу;
Кто юн, — тем чужд он, старики ж — в гробу;
«Он жив», — твердит наследник, про себя
По трауру желанному скорбя.
В обители, где предки Лары спят,
Висит гербов печально-стройный ряд;
Нет одного лишь в веренице той,
Что приютил готический покой.
Вот прибыл он, нежданно одинок;
Зачем, откуда — кто сказать бы мог?
Лишь стихла радость, каждый удивлен
Не тем, что прибыл, — тем, что медлил он.
Без свиты он; с ним только паж один,
Совсем дитя, страны далекой сын.
Для всех, кто дома, кто в земле чужой,
Проходят годы с той же быстротой;
Но если нет о ком-нибудь вестей,
Крылами Время машет тяжелей.
Все видят Лару, но любой смущен:
Где — в прошлом ли, иль в настоящем — сон?
Он жив, он свеж, но годы и труды
На нем свои оставили следы;
Хоть не забыл своих пороков он,
Но, может быть, был жизнью отрезвлен;
Дурных иль светлых нет вестей о нем;
Еще он может свой прославить дом;
Он был жесток, но черствость юных лет
От жажды наслаждений и побед;
И если тот не вкоренен разврат,
Его и без раскаянья простят.
Все в нем другое; это всяк поймет;
Каким ни стал он — он уже не тот.
Легли морщины меж его бровей;
То — знак страстей, но лишь былых страстей.
Он так же горд, но пылкости той нет;
Бесстрашен вид, презрителен привет;
Важна осанка, верен зоркий взгляд,
Чужую мысль ловящий вперехват:
Сарказмом едким напоен язык
(То жало духа, что и сам постиг
Яд мира и, как бы шутя, язвит,
И много скрытых ран кровоточит).
Но, сверх того, был чем-то странен он,
Что выражал порою взор и тон.
Любовь и слава, почесть и успех,
Что нужны всем, доступны ж не для всех,
Его души, как видно, не мутят,
Хоть жили в ней немного дней назад.
Но чувств глубоких непонятный строй
В лице бескровном возникал порой.
Он не терпел расспросов, да и сам
О странствиях по дебрям и лесам
Молчал, стараясь все же подчеркнуть,
Что совершил неузнанным весь путь.
Пытались и в глазах его читать,
И у пажа, что можно, разузнать,
Но нет: он все таил от глаз чужих,
Как бы то было недостойно их.
Когда ж пытливец был упрям, то взор
Его мрачнел, и — рвался разговор.
С ним радостно встречались все опять,
И сам был рад людей он посещать:
Высокой крови, всем князьям сродни,
Среди магнатов проводил он дни,
У знатных и веселых пировал,
Их радости и горе созерцал,
Но никогда участья не приняв
В смятеньи их забот или забав.
Ему не нужно то, что всех влечет,
Людских надежд взвивая зыбкий лет:
Ни честь пустая, ни сбиранье благ,
Ни страсть красотки, ни погибший враг.
Отъединен от всех, казалось, он
Магическим был кругом огражден;
Был взор его пронзителен и строг,
И с ним никто развязным быть не мог;
Вглядясь безмолвно, робкие душой
Шли прочь и ужас поверяли свой;
Но, кто умней, — твердить повсюду рад,
Что он гораздо лучше, чем на взгляд.
Не странно ли? Он в молодости был
Весь — жажда счастья, жизнь, движенье, пыл;
Бой, бури, женщины — все, что манит
Восторгами иль гибелью грозит,
Всем овладел он, все изведал он,
То счастьем, то страданьем награжден,
Не зная граней. В бешенстве страстей
Забвенья он искал душе своей.
Средь ураганов сердца презирал
Борьбу стихий он, схватку волн и скал;
Средь исступлений сердца он порой
И господа дерзал равнять с собой;
Раб всех безумств, у крайностей в цепях,
Как явь обрел он в этих диких снах,
Скрыл он, но проклял сердце, что могло
Не разорваться, хоть и отцвело.
Теперь он в книги устремлял свой взор
(Был книгой человек до этих пор);
Нередко, странным чувством увлечен,
На много дней от всех скрывался он;
Тогда слыхали слуги (хоть зовет
Их редко он) все ночи напролет
Тревожный шаг вдоль темных зал, где в ряд
Портреты предков грубые висят.
Шептали слуги («чтоб никто не знал»)
Что там и голос сверхземной звучал,
Что («смейся, кто желает») там иной
Мог чудеса подметить в час ночной.
Зачем бы Ларе череп созерцать,
У гроба грешно отнятый опять,
Всегда лежащий близ раскрытых книг,
Чтобы никто в их тайны не проник?
Зачем ему не спать, как все, ночей?
Гнать музыку? Не принимать гостей?
Нечисто все, — да как тут раскусить?
Кой-кто и знал бы… долго говорить!..
К тому ж, кто знает, никогда б не мог
Все выложить… так, — обронить намек…
«Но, захоти он, — о!..» — Так за столом
Вассалы Лары спорили о нем.
Ночь. Искры звезд, сверкая с вышины,
К реке зеркальной сплошь пригвождены.
Такая тишь! Недвижна быстрина,
И все ж, как счастье, вдаль бежит она.
Светил бессмертных горний хоровод
Магически в нее глядит с высот.
Вдоль берега — густых дубов стволы,
Ковры цветов, отрада для пчелы,
Дитя-Диана их бы заплела,
Их милому б Невинность поднесла.
Река сквозь них вела русло, вия
Блестящие изгибы, как змея,
Такая тишь, такая благодать,
Что призрак бы не мог тут испугать:
Ведь все дурное убегает прочь,
Увидя эту негу, эту ночь!
«Лишь добрым дан столь благодатный миг»,
Подумал Лара и, склоняя лик,
Пошел обратно в замок: он душой
Не мог с такою слиться красотой.
Он вспомнил красоту иной страны,
Где чище небо, ярче блеск луны,
Нежнее ночь, — а сердце, что теперь…
Нет! нет! пусть шторм над ним ревет как зверь,
Не дрогнет он! Но этот мир и лад
Насмешки злой вливают в сердце яд!
Вот он вошел в безлюдный зал; за ним
Тень по стенам скользила расписным,
Где кисть еще хранит обличья тех,
Чье все забыто, — и добро и грех.
Преданья смутны. Скрыл угрюмый склеп
Их прах, их скорби — всю игру судеб.
А в летописи пышных десять строк
Дают векам придуманный урок,
И — пусть историк хвалит иль бранит
Та ложь почти как истина звучит…
Так думал он… Сквозь переплет окна
На плитный пол сиянье льет луна,
И лепка потолка, и ряд святых,
Что молятся на стеклах расписных,
Как призраки наполнили покой,
Казалось, жили… жизнью сверхземной.
А Лара, с черной гривой, хмурым лбом,
С колеблющимся на ходу пером,
Сам походя на призрак, воплотил
Весь ужас, что исходит из могил.