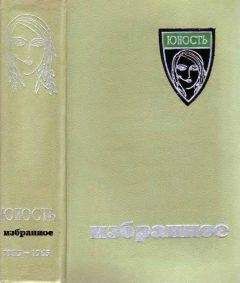У Чалина на руках Амир-бек, он обиженно плачет, оттопырив верхнюю губу, а Чалин неумело трясет его, чтобы он не плакал. Конечно, надо отдать ребенка матери. А где же она? Сашка поворачивается, хватаясь руками за борт машины…
Она сидит на дороге, на расстеленной шубе. Над нею склонились люди в полушубках, и кто-то растирает ей колени.
Когда-то мать рассказала мне, что родился я в глухую декабрьскую ночь в черной бане, врытой в берег речки Полдневки. Бушевал буран.
Я живо представил себе.
Люди несут в избу теплый живой комочек, укутанный в тряпки и дырявый мужицкий полушубок. Буран с ревом налетает на них, силясь задуть только что затеплившуюся жизнь. Люди прикрывают ее собой.
Прикрыл ли я собой хоть одну человеческую жизнь?
Двадцатый год.
Словно окаменевший, трубач стоит посреди двора и, запрокинувшись к звездам, трубит.
Сколько раз мы слыхали этот сигнал! Дымились морозы, бураны наваливались на холодный тифозный город, а мы по тревоге седлали коней.
В нескольких километрах от города пожар на заводе. На помощь пожарникам вызвали нас, курсантов. Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи. Перед глазами подпрыгивает светлая круглая луна…
Спешившись, мы замялись, не зная, с чего начать. Но вот мы уже работаем топорами и, обливая шинели, плещем из ведер в ненасытное шумное пламя. Один из пожарников вскрикнул и бросил брандспойт. Струя огня и пара обожгла ему лицо. Брандспойт подхватил курсант. Чтобы не загорелась на нем шинель, его обливают из другой пожарной кишки. Струя воды, как палка, колотит его по бокам и спине.
Пожар свирепствовал больше часа. Наконец, обжигая и шипя, огонь начал отступать.
Снова позвякивает стремя о стремя. Застоявшиеся кони набирают рысь. Луна поднялась уже высоко, и вокруг нее появилось мглистое белое кольцо — признак большого мороза. Шинели заледенели и стоят торчком.
Тридцать кавалеристов скачут в белой морозной ночи… Слышите? Это цокот копыт.
Давно, кажется, еще перед войной, я зашел на выставку нескольких наших художников на Кузнецком. Стены были увешаны огромными полотнами. В глазах рябило от красного цвета, парадной торжественности и улыбок.
Ни одно из этих полотен не задержало надолго моего внимания. Я с грустью размышлял: если художник, тщательно выписывая на груди ордена, не попытается понять, какое сердце бьется под ними, он вряд ли способен создать что-либо значительное.
Я уже собрался было уходить, но вдруг почти у самой двери заметил написанную маслом крохотную, ладони в две величиной картину в широкой ореховой раме. На ней не было ничего, кроме зеленых листьев смородины. В их темной, сумрачной гущине блестела одна-единственная дождевая капля. Я простоял у этой незаметной картины дольше, чем слонялся до этого по выставке. Мне казалось, что я стою в саду. Только что прошла гроза. Сыро. Свежо… И если я сейчас вспомнил о выставке этих художников, то только потому, что и сейчас вижу эту тяжелую, готовую скатиться с листка дождевую каплю.
Пустячок? Безделушка? А сколько ж она прибавила мне душевного здоровья, радости!
Возвращаясь домой, я удивился: как это я не замечал, что и городское небо полно звезд?
Знаю!
Вы веселый человек и любите улыбку.
Я тоже ее люблю,
если она не от сытого самодовольства,
Уныние?
Оно недостойно человека.
Но я люблю грусть,
эту задумчивую сестру
размышлений и замыслов.
Линогравюра Ю. Васильева «Море мечты».
Наша юность
тем хороша,
что
как вешняя зорька зардела;
что
от ленинского шалаша
ей открылись
пути без предела,
Наша юность
тем хороша,
что
с костров пионерских
сумела,
свежим ветром
глубоко дыша,
закалить
свою волю и тело.
Наша юность
тем хороша,
что мечтой
в занебесье взлетела,
что ничья молодая душа
от заботы
не очерствела.
Наша юность
тем хороша,
что глядит
неподкупно и смело,
не ища
для себя барыша,
за великое
борется депо.
Наша юность
тем хороша,
что страна
ее в славу одела,
руды плавя,
покос вороша,
разным знаньем
она овладела.
Все препятствия
сокруша,
перед трудностями не робела,
как густая стена
камыша,
над рекой
ее песнь прошумела.
«В лесу появилась новость…»
В лесу появилась новость,
в лесу объявился я…
Стряхнула свою сосновость,
еловость свою
хвоя.
Береза качнула холкой.
Боярышник зашумел.
Испуганный дрозд защелкал.
И на нос мне землемер
шагнул — зеленый и тощий —
с трепещущего листа:
он мерял дотошно точно,
прихрамывая слегка.
…Я новость в лесу,
мне грустно.
Не тутошний яг не свой
для трав,
для белого груздя
под высохшею листвой.
Вниманьем обескуражен,
оглядываюсь кругом…
Зеленые лапы поглажу,
букаху сшибу щелчком,
с плеча березы губами
пахучий листок сорву,
набью кузовок грибами,
в густую лягу траву.
Под синей небесной ширью
зеленый сомкнется свод.
И лес привычною жизнью,
признав меня, заживет…
Высокочтимые Капулетти,
глубокоуважаемые Монтекки,
мальчик и девочка — ваши дети —
в мире прославили вас навеки!
Не знаменитые ваши заслуги,
не звонкое злато, не острые шпаги,
не славные предки, не верные слуги,
а любовь, исполненная отваги.
Другая слава, другая победа,
другая мера, цена другая…
Или все-таки тот, кто об этом
поведал,
безвестный поэт из туманного края.
Иные болтают: того поэта
вообще никогда на земле не бывало…
Но ведь был же Ромео, была
Джульетта,
страсть, полная трепета и накала.
И грош цена рассужденьям
бесплодным,
многоречивым и праздным спорам,
был ли он графом высокородным,
этот поэт,
или бедным актером.
Все равно ведь Ромео так пылко
нежен
и так растворилась в любви
Джульетта,
что жил ли на свете Шекспир
или не жил,
честное слово, не важно и это!
В траве глубоко и сыро,
если шагнуть с крыльца.
Держу я чужого сына,
похожего на отца.
Держу высоко, неловко
и говорю: «Смотри!
Видишь, какая лодка,
синяя изнутри!
Возьмем леденцы, орехи,
что у меня в столе.
Посмотрим, какие реки
водятся на земле.
Есть и река смешная.
Она течет далеко.
Наверно, она смешала
воду и молоко.
Сахарных рыб немало
в гуще ее рябой…»
Но бровью поводит мама,
глядя на нас с тобой.
Нам не устроить побега.
Речек не увидать.
Сына после обеда
строго уложат спать.
Окна, закройтесь плотно,
лампочка, не гори!
А сыну приснится лодка,
синяя изнутри.
«Я думала, что ты мой враг…»