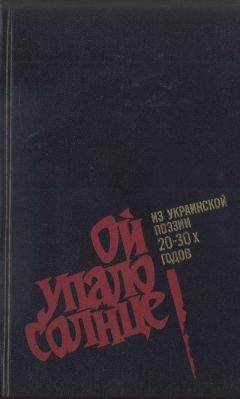«Померкшей позолоты прах…»
Померкшей позолоты прах
на древних храмах Ярослава,
и солнце — стертый грош в руках,
и как позор — былая слава.
Побед восторги позабыты,
кровь печенегов не течет,
останки жалкие открыты:
церквей руины и ворот.
Над пепелищами веков
стою и думаю: все было…
И громко череда гудков
вдруг день грядущий возвестила.
1929
«По клетке, за железными дверями…»
По клетке, за железными дверями,
униженный, но величавее, чем бард,
уставясь в пустоту тоскливыми очами,
неслышно мечется могучий леопард.
Пружинит гордый шаг, играет огоньками
шерсть пламенистая. И смех вокруг, и гвалт,
но узник в джунглях, движется кругами,
где гнутся лотосы и расцветает нард.
Так и твоя, поэт, невероятна доля —
метаться, рваться в путах суеты,
о рае грезя, словно Пико Мирандола.
И к синим берегам на золотой гондоле
твоя мечтательная грусть плывет… а ты…
а ты грохочешь кандалами Атта Троля.
1929
Сирени и розам дивлюсь,
мне радость доносит антенна,
прозрачнее тела медуз,
воздушней мазурки Шопена.
И свет я вдыхаю, и звук,
лучи надо мною играют,
я вижу: на кладбище мук
опять семена прорастают.
О пращуры давних веков,
влюбленные в музыку дети,
я душу открою без слов
сокровищам лучшим на свете.
Сирени и розам дивлюсь,
мне радость доносит антенна,
прозрачнее тела медуз,
воздушней мазурки Шопена.
1929
Погаснет цвет апреля,
и отшумит весна,
и будет лето зелено
и глубь ясна.
В ту глубь заглянет осень
и загрустит сама,
и под гуденье сосен
придет зима.
И нет тем дням покою:
весной сойдет снежок,
откроется с тропою
след чьих-то ног.
И вновь цветут черешни
и зеленеет луг…
День нынешний, вчерашний —
извечный круг.
И я в том круге с вами
душою молодой:
спадаю, поднимаюсь
с днепровскою водой.
1930
Созвездье Треугольника слетело
на шири вод, на сумрак мостовой,
на темноту низины луговой,—
и взгорье удивленно онемело.
На плесах парусов перо бледнело;
звук в лунном свете падал сам не свой;
в монистах огневых над синевой
моста громада, как мечта, светлела.
И подивился Володимир-князь,
увидев с кручи световую вязь:
«Как чудны озаренные просторы!
Мне эта высота нужна едва ль,
померк мой крест, и потемнели горы…» —
И двинулся в неведомую даль.
1930
Все — удушавший воздух, камень хмурый —
исчезло, словно мой кошмарный сон…
Ветвистых кленов юный батальон
высоко расстилает шевелюры.
Дубы бегут с горы, как буйны туры…
Пообочь сосны — целый храм колонн
(а на небе полоской — синий лен,
и чуть мерцают золотом бордюры).
Вдруг смоляной шатер небес пробит:
какой размах! И Днепр, как змей, блестит,
на горизонте Междугорье встало…
Под ним долина в дымке, как ладонь…
А над мостом созвездье засверкало —
и занялся Подол. Огонь, огонь, огонь…
1930
Чернигове, за смелого Мстислава
на Севере вступал ты в шумный спор,
тягаясь славой с градом Ярослава,—
во мгле веков заглох тот разговор.
Когда ж Разор надвинулся кроваво
и бурный Киев дал врагу отпор,
ты, господине — тягостный позор! —
в монастырях попрятался лукаво.
А ныне ты над тихою Десною
сияешь златом княжьих куполов,
садов укрывшись зеленью резною.
Теперь уже не устремишься к бою,
с литвином к смертной брани не готов:
Могила Черная довлеет над тобою?
1930
Тут сечь была, вели гульбу майданы,
казацкие дымились курени,
тут спорили с серьмягами жупаны,
и пели песни гордые они.
А ныне все укрыли баклажаны,
картошка, огурцы, где ни взгляни,
деды лишь да могильные курганы
припоминают канувшие дни.
Смотри на север: там стальные своды
легко коснулись голубых небес
и рассекла стена живые воды.
А на горе вздымаются заводы.
То новый дух степей, то Днепрогэс,
то грозный властелин природы.
1930
Круги, прямоугольники, квадраты;
среди бетона, стали и стекла
радиомузыка и автоматы,
а надо всем — победный знак числа.
Везде сады. Убранства их богаты,
и переливчато роса в траве легла,
с небес лазурных заревом заката
свисает золотисто мушмула.
Тут все — одна семья, где не слыхали
угрюмых слов: застенок, плаха, кат,
где радости труда, а не печали,
предательства кинжал не обнажали,
где каждый равен — среди братьев брат,
а силу власти — разуму отдали.
1930
«Вставай на путь суровый и негладкий…»
Вставай на путь суровый и негладкий,
не спотыкайся, не гляди назад.
Уже ноябрь холодный, хмурый, хваткий
с берез, с дубов сорвал скупой наряд.
Стальною дымкой затянуло дали,
и сквозь нее столбы дымов встают.
И не желтеют мальвы там в печали,
а труд и песня в пламени цветут.
Круши скалу традиций вековую,
прах несвободной жизни отряхни.
Кто выпил чашу пенную, хмельную,
тому уж нет пути в былые дни.
1930
«Спустившись в глуби, в сумраке печальном…»
Спустившись в глуби, в сумраке печальном
шахтер привычно, как подземный гном,
в породе горной движется с кайлом,
руду ли, уголь рубит в штреке дальном.
Не сном химерным, вымыслом астральным,—
а в домн огне, в Гольфстриме золотом
руда легко расплавится, потом
железом станет в гимне триумфальном.
Поэт, не бойся жизни глубины,
бросайся в будней шум из тишины,
и ты добудешь драгоценный камень.
Грани, шлифуй свой радужный опал,
вложи всю душу — пусть играет пламень
для всех людей — вот высший идеал.
1930
Три ночи ты, в своей поре прекрасной,
цветешь, расправив на воде листы,
округлые, большие, как щиты,
и посреди цветок крестообразный.
Белеешь, словно снег в горах алмазный,
ну а потом в зените красоты
вдруг розовеешь, как фламинго, ты
и, наконец, зарей пылаешь ясной.
Вот — дивный путь моих метаморфоз
среди метелиц, ураганов, гроз,
играющая радугой триада.
Мой первый цвет — лилейный звон равнин,
второй — раскрылся светлой розой сада,
а третий — страсти пламенный рубин.
1930
Как на Голгофу, мы брели к могиле
по пустошам седым чужой земли,
заброшенную кое-как нашли
среди оврагов, можжевеля, пыли.
И видим горестно, что травы обступили
плиту разбитую, и листья замели,
но надпись полустертую прочли
и силу слов обычных ощутили.
Покинутый, осиротелый прах!
На брошенном погосте в лопухах
нашел жилище наш бездомный гений.
Прообраз дней его — Лаокоон,
а смерть его в борьбе, среди гонений
не украшает лавром пантеон.
1930