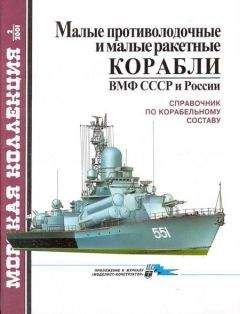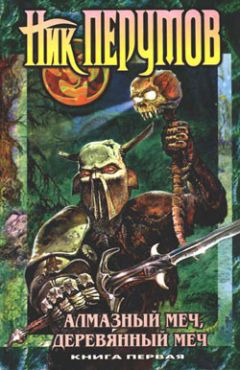Власы ему свирепый ураган.
Небесным.
Песнь I
Раскольники в мечтах возводят рай
Для избранных счастливцев; и дикарь
Гадает – на языческий манер —
О Небесах. И, право слово, жаль,
Что на папирус либо харатью
Никто из них не клал певучих строк.
Вотще мечтают, и живут, и мрут —
Поскольку лишь Поэзия вольна
Мечты в слова облечь, и тем сберечь
Воображение от черных чар
И тьмы. Зачем же смертные твердят:
«Коль не Поэт – не пой свою мечту»?
Ведь каждый, кто в душе не свинопас —
Поэт, и о мечте, познав любовь,
Поет, коль изучил родной язык.
Моих видений и мечтаний повесть —
Пред вами; а Дикарь я, иль Поэт —
Узнается, когда усну в гробу.
Я видел небывалый строй древес:
Чинара, пальма, дуб, и сикомор,
И мирт, и бук – растенья всех широт.
И рядом был ручей: нежнейший плеск
Я слышал; и струился аромат
Недальних роз. Потом, оборотясь,
Беседку я узрел: вьюнок, и плющ,
И виноград обильно заплели
Строение сие со всех сторон,
Обрамив дверь. Вблизи порога мох
Усеивали райские плоды —
Остатки пира… Кто здесь пировал?
Праматерь Ева? Или херувим?
Плоды благоуханные в траву,
Едва почав, роняли едоки —
Плоды чудесных, неземных ветвей.
Казалось, трижды изобилья рог
Опорожнился там во славу Коры,
Вернувшейся на тучные поля,
Где овцы мирно блеют. Я взалкал,
Как не алкал, пожалуй, искони.
И, утолив невероятный глад,
Возжаждал – ибо там стоял сосуд,
Наполненный прозрачнейшим питьем,
Дразнивший пчел. И я, изрекши тост
За всех живущих, и за мертвецов
Бессмертных, чьи почтенны имена,
Испил. А что случилось – опишу.
Ни азиатский мак, ни эликсир,
Которым братьев потчует халиф,
Ни яд, которым сумрачный монах
Пропалывает старческий конклав,
Не прерывают столь внезапно жизнь.
Я пал на шелуху и кожуру
Плодов Эдемских, тщась преодолеть
Воздействие напитка – но вотще;
И обморок настал, и замер я,
Что соком лоз поверженный Силен.
Я крепко спал, а долго ли – Бог весть.
Но вот очнулся, ожил и вскочил,
Как встрепанный. Исчезли чудный лес,
Беседка, снедь, загадочный фиал.
Я осмотрелся. Я стоял внутри
Старинного святилища – и столь
Высок был свод, что, мнилось, облака
Под ним клубились, точно в поднебесье.
Древнейший храм! Я не припоминал
Подобных: и готический собор,
И Парфенон, и грузный зиккурат,
Наследья канувших навеки царств, —
И даже горы, что Природа-мать
Ваяла, – мельче и моложе, чем
Сей ветхий деньми сводчатый гигант.
На мраморном полу, вкруг ног моих,
Стояли чаши, и лежали ризы,
Для коих пряжей, видно, был асбест —
Иль их соткали там, где ржа и моль
Не истребляют: как белела ткань,
И как сверкало древнее шитье!
Смешались грудой подле ног моих
Одежды, пояса, кадильник, цепь,
Священные жаровни и щипцы…
И снова я смятенный взор возвел
В неизмеримый храмовый простор.
Под исполинским сводом строй колонн
В туманы шел, на север и на юг, —
В ничто. Не размыкали темных врат
Восточных встречь заре который век.
А вдалеке на западе чернел
Кумир огромный, тяжкий, точно туча,
И жертвенник у стоп его дремал;
Несчетные ступени с двух боков
Туда вели – суля предолгий труд
Решившему разведать их число.
Я двинулся на запад не спеша,
Поскольку в храмах непристойна прыть;
И подле алтаря увидел жрицу,
Священный зажигавшую огонь.
В разгаре мая, коль восточный ветр
Сменится южным, иней с лепестков
Смывает быстрым радостным дождем,
А теплый воздух так отменно здрав,
Что встанешь и со смертного одра, —
И дым алтарный, чудилось, точь-в-точь
Как воздух майский был – и здрав, и свеж.
И я забыл бы тотчас обо всем,
Опричь блаженства – но от алтаря,
Из благовонной дымной пелены
Раздался голос: «Если не взойдешь
По лестнице – погибнешь, где стоишь!
Земная плоть, сестра которой – персть,
Истлеет; обнажившийся костяк
Дотла иссохнет, обратится в пыль:
Зорчайший глаз не сыщет ни клочка
Твоих останков бренных там, внизу.
Твои минуты ныне сочтены,
И жизнь иссякнет, как в часах песок;
Спасешься – коль подымешься наверх,
Покуда листья смольные горят!»
Я внял, я видел: слух и зренье, враз
Обострены, сумели оценить
И суть угрозы, и длину пути,
И предстоящий труд… Огонь еще
Горел – но вдруг пополз мертвящий хлад
По телу от ступней – и каждый член
Застыл, и, мнилось, ледяные когти
Вонзились в горло – крепки, словно сталь.
Я взвыл – и мой отчаяннейший вой
Меня же оглушил… О, если б хоть
На первую теперь взойти ступень!
Свинцов был шаг мой, тяжек, мертв – и лед
Незримый сердце мне стеснил, сковал;
Я руки сжал – и не почуял рук.
За миг до смерти ногу я преткнул
О нижнюю ступень – и хлынул ток
По жилам теплый. И взошел я ввысь:
Так Ангелы всходили древле в Рай
По лестнице. «Во имя всех святынь! —
Воскликнул я, пред алтарем восстав: —
Кто есмь, коль ты спасла меня от смерти?
Кто есмь, коль смерть меня и здесь неймет?
Ведь смертным здесь глаголать – смертный грех!»
Закутанная тень рекла: «Вкусил
До срока ты погибель, и воскрес
До срока. Твой спаситель – твой испуг,
Придавший сил. Ты гибель повстречал —
И жив». – «Богиня! – рек я: – Истолкуй
Слова святые, ибо я не мудр».
«Лишь тот сюда взойдет, – сказала тень, —
Кого снедает мировая скорбь,
И кто всецело скорбью поглощен.
А теплых устроители берлог,
Бездумно коротающие дни, —
Они, войдя случайно в этот храм,
Сгниют внизу, где ты едва не сгнил».
«Но тысячи людей найдутся ведь, —
Я смело молвил, вещей жрице вняв, —
Готовых жизнь за ближнего отдать,
Постигших ужас боли мировой,
Радеющих о благе всех племен
Людских! Увидеть было б должно тут
Опричь меня – других, и очень многих».
«Меж ними нет сновидцев, – тень в ответ
Рекла, – земля влечет их чересчур,
И человек для них – венец чудес,
И голос человечий – слаще арф.
Таким сюда являться недосуг;
А ты в сравненьи с ними слаб и мал —
Но ты пришел. И ты, и весь твой клан —
Обуза смертным. Ты мечтаешь лишь,
Но тщетно. Сколько ты похоронил
Блаженных, утешительных надежд?
А где же твой приют? Любая тварь
Ютится где-то. Человек любой
И радость в жизни ведает, и боль,
Но – только боль, иль только радость: врозь.
А ты и в счастье обречен страдать,
Мечтатель… Незаслуженная кара!
И, чтобы долю эту облегчить,
Бедняг, – таких, как ты, – впускают сплошь
И рядом в наши дивные сады
И храмы наши; оттого-то цел
Стоишь пред алтарем, и невредим».
«Я счастлив, коль моя никчемность – честь,
И не постыдна умственная хворь,
От коей стражду; речь твоя – бальзам
Целебный, и награда из наград, —
Я рек. – О, тень державная, дерзну
Просить о новой милости! Скажи:
Неужто всяк, слагающий стихи, —
Обуза смертным? Ведь поэт – ей-ей! —
Мудрец, и вестник, и духовный врач.
Я не поэт, я знаю: певчий дрозд
Не ровня сладкогласным соловьям.
Но кто же я? Ты помянула клан —
Какой же?» – И вздохнула тяжело
Загадочная тень в покровах белых,
Плывущий дым кадильный всколыхнув,
И разом голос вещий стал суров:
«Мечтатели – не твой ли это клан?
Поэт – зеркальный образ, антипод
Мечтателя. Поэт – целитель язв,
Которые мечтатель причинил».
И я невольно выкрикнул с тоской:
«О Феб! О где ты ныне, Аполлон?
О, напряги же свой разящий лук —
Иль ниспошли ползучую чуму:
Да будет всяк тобою истреблен
Бездарный стиходел и виршеплет
Никчемный, коих раздувает спесь!
Я вместе с ними сгинуть был бы рад —
Лишь дай узреть погибель рифмачей!..
О тень мудрейшая, скажи: кому
Восставлен сей алтарь? Кому кадишь?
Кого изображает сей колосс,
Подобный туче? И поведай: кто
Сама ты? Перед кем я речь держу?»
И снова издала тягчайший вздох
Таинственная тень в покровах белых,
Плывущий дым кадильный всколыхнув,
И снова голос вещий стал суров, —
Но, мнилось, в горле жрицы плотный ком
Стоял: «О смертный! Этот храм – пустой,
Печальный, – древле пережил войну
Богов. Неизрекомо стар и сей
Кумир; покрыли тысячи борозд
Ему чело за тысячи эпох:
Се – образ Крона. Я же – Мнемозина,
И здесь алтарь заброшенный храню».
Я не сумел ответить, мой язык
Бессильно в бессловесности коснел:
Нейдет на ум величественный слог,
Когда ложится нá душу печаль.
Царила тишь, и меркли пламена
Алтарные – их было след питать.
Я осмотрелся. Рядом, на полу,
Охапками лежал пахучий нард,
А также листьев смольных вороха.
Тревожно я на жертвенник взглянул,