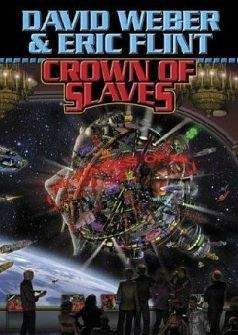Пять утра
Бывает же такое время — пять!
Ни дать, ни взять другой планеты время.
Из похождений возвратился зять.
Обходит тещу. Робко чешет темя.
Холодные пельмени молча ест.
В потемках перешагивает сына.
Ему заутро — в Обыл-ебыл-трест,
где шаткий стол, с отбросами корзина.
Сейчас он засыпает на ходу,
валясь, как древо срубленное, в койку.
И сигарета, посновав во рту,
вдруг замерла,
приняв, как Бобик, стойку.
А в шесть я достаю бадью
скрипучим воротом колодца
и через край прохладу пью,
и сердце жаждущее бьется.
Ни мысли нет, ни жеста нет, —
одна лишь честная отдача
себя — воде, земле…
Рассвет:
над сонным лесом солнце скачет.
И в доме том, где я живу,
нальются комнаты сияньем.
Я песней воздух разорву,
как в добродушном состоянье!
Возьму топор и — ну! — сверкать…
А на крыльце соседском баба
спросонья примется икать,
зеленоватая, как жаба.
1965, п. Вырица
«В груди — сомнения кинжал…»
В груди — сомнения кинжал.
В душе одышка. Оплошал.
В мозгу — сумятица, разброд.
Прокис в подкорке кислород.
Пишу письмо. В подтексте бред.
Им будет адресат согрет.
Кадушку ребер обруч сжал.
Тревоги обруч. Оплошал.
Безбожен мир. Уныл мой дух.
Кто оплошал? Один из двух:
извечный Он, иль тучный я,
под кем скрипит судьбы скамья.
1991
Профессор кислых щей, пижон или кретин,
Аллах иль Магомет — ах, кто ни умножай, —
одиножды один получится один.
Но и одно зерно пророчит урожай.
Мы все по одному — и раб, и господин.
Всяк сущий одинок, и гроб всему итог.
Одиножды один и в Греции один.
Один — и Люцифер, и всемогущий Бог.
И ты, мой антипод, доживший до седин,
меня не обличай, учти: я — твой двойник.
Одиножды один останется один…
Но — от любви одной весь этот мир возник.
1991
Видит Бог, надоело —
все вокруг колбасы,
все о черном да белом.
Я хочу бирюзы!
Вылезая из норки,
растопырив усы,
я хочу на пригорке
обомлеть от красы.
От летящей березы,
от поющей козы…
Чтоб — отхлынули слезы
чтоб — отпрянули псы.
1991
«Жизнь хороша моментами…»
Жизнь хороша моментами.
Успеть, хоть часть, но всласть!
Бог с ними, с претендентами,
клюющими на власть.
Пусть станут президентами,
пусть издадут декрет.
Жизнь хороша моментами!
А в целом — ложь и бред.
Беда с интеллигентами,
что ищут в жизни суть:
ведь и они, моментами,
не прочь словцо ввернуть.
1991
Возвращается «нэп».
Удаляется время безбожное.
И Россия, как склеп,
как кладбищенский склеп, потревожена.
Ни бум-бум, ни строки
не прочесть по-заморски крестьянину.
И дымят мужики, и скворчат шашлыки
из тропической обезьянины.
Происходит весна.
Потянуло чужими эфирами.
Опустела казна.
Наводнилась страна командирами.
Там, где жили друзья-кумовья,
поселились враги-неприятели.
Нефть ушла в глубину,
совесть клонит ко сну…
Не дымят предприятия.
Что же будет потом?
По прошествии нового времени?
Славный будет дурдом.
Ни России, ни роду, ни племени.
И придут комиссары опять.
И начнут заниматься ошибками.
Те же, к свету способные звать.
Только форма — с другими нашивками.
1991
В музее монументов,
чьи кончились часы,
утрачены «фрагменты» —
бородки, лбы, носы.
Калинин, Ленин, Троцкий,
угрюмый дядя Джо…
Отпетые уродцы.
Не крикнешь им: «Ужо!» —
как пушкинский Евгений
надменному Петру…
Их каменные тени
живут.
А я — умру.
1991
Выцветшие мелочи,
утлый дачный быт.
Надпись на тарелочке:
слово «Общепит».
Что-то неудачное,
шрамом на лице,
мрачное, барачное
в том сквозит словце.
Что-то тускло-мнимое,
как сухая ржа,
злое, но родимое,
с чем срослась душа.
1991
Раздался день!
Не вширь, а — всем подряд.
Бог любит всех, а не тебя лишь, брат.
Раздался день: всем встречным — по лучу.
И я, свое, от жизни получу.
Но — не по блату и не задарма.
Не за причуды разума-ума.
Не за кряхтенье жалкое под ношей, —
а за терпенье! За азарт хороший.
И — за любовь, что в сердце налита.
Раздался день! Как благовест Христа.
Получен от Всевышнего паек.
Трезвит сознанье поздний кофеек.
1991
На воротах Смоленского кладбище а свое время висели громкоговорители.
На кладбище «Доброе утро!»
по радио диктор сказал.
И как это, а сущности, мудро.
Светлеет кладбищенский зал.
Встают мертвяки на зарядку,
стряхнув чернозем из глазниц,
сгибая скелеты вприсядку,
пугая кладбищенских птиц.
Затем они слушают бодро
последних известий обзор.
У сторожа пьяная морда
и полупокойницкий взор.
Он строго глядит на бригаду
веселых своих мертвецов:
«Опять дебоширите, гады?» —
и мочится зло под крыльцо.
По радио Леня Утесов
покойникам выдал концерт.
Безухий, а также безносый
заслушался экс-офицер.
А полугнилая старушка
без челюсти и без ребра —
сказала бестазой подружке:
«Какая Утесов мура…»
Но вот, неизбежно и точно,
по радио гимна трезвон…
«Спокойной, товарищи, ночи!» —
И вежливость, и закон.
1956
«Сначала вымерли бизоны…»
Сначала вымерли бизоны.
На островках бизоньей зоны.
Затем подохли бегемоты
от кашля жгучего и рвоты.
Косули пали от цинги.
У мух отнялись две ноги,
но мухи сразу не скончались…
И дикобразы вдруг слегли,
еще колючие вначале,
но вот — обмякли, отошли.
Оцепенела вдруг собака.
Последним умер вирус рака.
Когда скончался человек,
на землю выпал толстый снег.
Снег на экваторе искрился,
снег в океанах голубел,
но санный след — не объявился
и шинный след — не проскрипел.
Машины снегом заносило,
торчали трубы — пальцы труб.
Земля утрачивала силу.
Все превращалось в общий труп.
…И только между Марсом, правда,
да между умершей Землей
еще курили астронавты
и подкреплялись пастилой.
Сидели молча, как предметы,
с землей утрачивая связь.
И электрического света
на пульте вздрагивала вязь.
1959
Постучали люди в черном.
Их впустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих.
Мама ела торт «полено»,
я, дурак, жевал картон.
И вибрировал коленом
звездолобый пинкертон.
Он стоял в дверях, чугунный,
неподкупный, — враг врагов!
Торс гитары семиструнной
на стене — из двух подков.
И, вонзаясь в грудь комода,
пропотели вдруг в труде
представители народа,
два лица в энкаведе.
Разве можно книги мучить?
Зашатался книжный дом.
И упал из шкафа Тютчев
к сапогам двоих — ничком…
Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде,
что вы ищите, ребята?
Разве собственность не свята?
1956