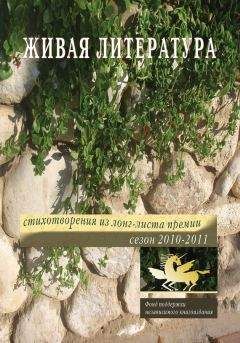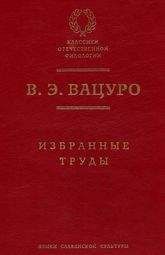Баржи плывут в Югославию,
ангелы чинят бакены.
Только деревья рвутся вверх,
чтобы, когда он позовет, быть к нему ближе.
Утром в город завозят овощи,
и, как золото, светится на солнце
песок, смешанный с кровью и вермутом,
на зубах и рубахах у грузчиков.
* * *
…Снег, как старинное полотно,
уложенный в выдвижных ящиках неба —
и он не укроет мою тоску.
Но сквозняк гуляет от кордона к кордону,
неразорвавшейся бомбой чернеет вокзал,
и одинокие ночные экспрессы, словно ужи в озерах,
плавают в темноте и плещут хвостами
вокруг моего сердца.
5
Вышло так, что, прочитав (а перевод – это самое внимательное чтение) Антоныча, Лышегу и Жадана, я почувствовал, как может звучать на русском, принося мне радость, англоамериканский верлибр. Я думаю, что Лышега и Жадан указали мне путь к переводам с английского. Я увидел, как может быть организован на языке, близком к русскому, не скатывающийся в скучную прозу или в напускное глубокомыслие, не пользующийся стандартными «красивостями» и насквозь литературной лексикой, а сохраняющий поэтический нерв, объединяющий вечное и современное, верлибр. После этого я, наверное, и сформулировал для себя, зачем мне нужно его переводить, что это за «сухая кровь», способная пересечь границы языков. Эту «сухую кровь» – сочетание трезвого ума и страстности – я замешивал на живой влаге украинской и, конечно, русской поэзии. Вероятно, я говорю только о фактах своей биографии. Будет ли полезен мой пример для кого-нибудь еще – Бог весть. Но, во всяком случае, я, как когда-то написал обо мне Жадан, «получил свой личный сатисфекшн». Поверьте, это немало.
Подсолнечная сутра
Прошагав по грудам выпотрошенных консервных банок, я присел в огромной тени паровоза Южно-Тихоокеанской железной дороги. Я поглядел на склон с коробками двухэтажных домов, на закат над ним и застонал.
Джек Керуак, мой спутник, сел сзади на покореженную ржавую железную балку. Понурые, с потухшими глазами в окружении узловатых стальных корней под стволом паровозного котла мы думали об одном и том же.
Красное небо отразилось в маслянистом потоке, солнце кануло за верхушки холмов Фриско. В этой воде не водится рыба, в этих горах нет монахов-отшельников – мы здесь одни, неприкаянные, со слезящимися глазами, словно береговые дряхлые бродяги с изнуренными и жуликоватыми лицами.
Гляди, Подсолнух, – сказал он. Мертвенно-серый силуэт, большой, точно человек, севший на кучу древних опилок.
Я вскочил от восторга. Я впервые увидел подсолнух. Мне пригрезились джаз Блейка, дьявольские ущелья Гарлема и Восточной реки, мосты, длинные и громыхающие, будто черствые сэндвичи в придорожных закусочных, сломанные детские коляски, черные лысые шины, не подлежащие восстановлению, поэзия речного берега – битые бутылки и презервативы, стальные ножи – нет ничего, что бы не ржавело, склизкая дрянь, ранящие, как лезвие бритвы, приметы уходящего времени и серый Подсолнух, замерший на фоне заката, до хруста пыльный и закопченный – сажа, смог и дым старых паровозов въелись в его глаза, словно сплющенная корона, свесился набок венец пожухлых лепестков, семечки выщербились из его лица. Устье солнечных лучей скоро сомкнется, как беззубый рот, и солнечный воздух вокруг его шевелюры станет клубком сухой паутины. Листья, точно руки, торчали на стволе – жест вцепившихся в опилки корней – точно куски треснувшей штукатурки осыпались с черных черенков, дохлая муха повисла у него на ухе.
Чертова битая рухлядь, мой подсолнух, моя душа, в ту минуту я любил тебя!
Эта грязь – не род человеческий заляпал тебя ею, а сама смерть и придуманные людьми паровозы, рубашка пыли на твоей потемневшей от железной дороги коже, копоть на твоих щеках, черная нужда на твоих веках, вымазанная сажей рука с открытой ладонью, или фаллос, или протуберанец – весь этот грязный индастриал – вся наша цивилизация запятнала грязью твой безумный золотой венец, неясные предчувствия смерти, запорошенные пылью позабывшие любовь глаза, засохшие корни в родной куче песка и опилок, долларовые бумажки, кожух машины, кишки раскуроченного вагона, свисающие на бок языки пустых консервных банок – о чем еще мне сказать? – торчащий конец недокуренной сигары, влагалища тачек, вскормившие нас груди цистерн, сфинктеры электрогенераторов – все впуталось в твои окостеневшие корни, и ты стоял передо мной на закате во всей своей красе!
Совершенная красота подсолнуха! Его совершенная прекрасная сияющая душа! Ласковое око природы, нацеленное на резво всходящую, красноватую, как ягода шиповника, растущую молодую луну, что беспокойно чувствует в закатных тенях рассветный золотой месячный приливный бриз!
Мухи роились вокруг тебя, невиноватого в своей грязи, хоть ты и клял небеса над железной дорогой и свою цветочную душу.
Несчастный засохший цветок? Ты забыл, что был цветком?
Глядя на свою чумазую шкуру, ты решил, что был старым грязным бессильным паровозом, тенью паровоза? Призраком прежде могучего бешеного американского паровоза?
Да никогда ты не был паровозом, Подсолнух, ты был подсолнухом!
А ты, Паровоз, смотри не забывай, что ты паровоз!
И я выдернул крепкий позвоночник подсолнуха, и оперся на него, как на скипетр, и сказал своей душе, и душе
Джека, и всем, кто меня слышал:
Мы – вовсе не наша грязная шкура, не мрачные пыльные безобразные паровозы, внутри мы прекрасные золотистые подсолнухи, благословенные семенем и добавленным к нему нагим телом в золотых волосках, что превращается в безумный черный остов подсолнуха на фоне заката, за которым следят из тени паровоза на усыпанном жестянками берегу на закате у холмов Фриско вечером наши глаза.
Калифорнийский супермаркет
Тем вечером я все время думал о тебе, Волт Витмен. У меня болела голова, я бродил по улицам среди деревьев, а сверху на меня пристально смотрела полная луна.
Пошатываясь от голода, я вошел за вдохновением в супермаркет, и в памяти всплыли перечни из твоих стихов.
Какие персики! Какой колорит! По вечерам сюда идут всей семьей! Мужья толпятся в проходах, жены среди авокадо, детвора среди помидоров. – А ты, Гарсиа Лорка, что ты ищешь в арбузах?
Я увидел тебя, Волт Витмен, старого одинокого бездетного лесоруба. Ты тыкал пальцем в мясо, бросая взгляды на молодых продавцов в бакалее.
Я слышал, как ты по очереди спрашивал их: Откуда эта свинина? Почем бананы? Это ты – мой Ангел?
Я шел за тобой между рядами сверкающих банок, за плечом у меня маячил воображаемый охранник. Не попадаясь на глаза кассирам, мы в одиночку разгуливали среди стеллажей, грызли авокадо, пробовали подряд все фантастические замороженные деликатесы.
Куда нам пойти, Волт Витмен? Через час супермаркет закроется. Куда глядит острие твоей бороды?
(Я раскрыл твою книгу и увидел со стороны нашу сегодняшнюю одиссею, весь этот абсурд).
Ну что, прогуляемся по ночным пустым улицам? Деревья кладут одну тень на другую, в домах гасят свет, мы здесь одни.
Ну что, думая о той Америке любви, которую не вернуть, пойдем вдоль припаркованных синих машин к нашему тихому дому?
Эй, отче, седая борода, одинокий старик, учивший мужеству, что же это была за Америка, из которой Харон увез тебя в своей лодке, и ты остался в тумане на берегу, глядя, как его шест пропадает из виду над черными водами Леты?
С английского
№ 6
Я поставил на лошадь под номером 6
дождик
в руке – бумажный стаканчик кофе
не разбежишься
ветер сдувает воробьев
с крыши над верхней трибуной
жокеи молчаливо выстраиваются
перед заездом
моросящий дождь
стирает все различия
лошади мирно стоят бок о бок
перед нервной схваткой
нащупываю в пачке сигарету
обхожусь одним кофе
потом лошади проезжают
перед трибунами
увозя своих маленьких наездников —
траурно торжественно радостно
словно это раскрылись цветы
Остановка движения
Любить тебя при свете солнца, утреннего солнца
в гостиничном номере
над проулком,
где бродяги подбирают пустые бутылки,
любить тебя при свете солнца в номере,
где ковер на полу красней нашей крови,
любить тебя, когда остальные торгуют
кадиллаками и заголовками новостей,
любить тебя в номере с фотографией Парижа
и открытой пачкой сигарет,
любить тебя, когда остальные бедолаги работают.
Тогда и сейчас —
расстоянье, наверное, в несколько лет,
но я думаю только об одном —
в жизни уйма дней,
когда она вдруг останавливается, как вкопанная,
и ждет, как поезд на путях.
Я прохожу мимо гостиницы в восемь и в пять,
в проулке кошки, бутылки, пьяницы.
Я смотрю на те самые окна и не знаю,
где ты и что с тобой.
Я иду дальше, и мне хочется спросить —
куда уходит жизнь,
когда останавливается?