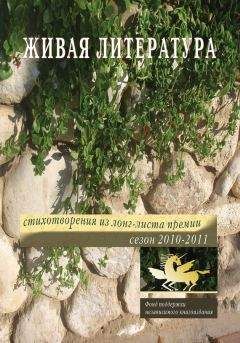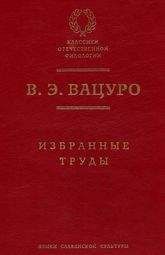любить тебя в номере с фотографией Парижа
и открытой пачкой сигарет,
любить тебя, когда остальные бедолаги работают.
Тогда и сейчас —
расстоянье, наверное, в несколько лет,
но я думаю только об одном —
в жизни уйма дней,
когда она вдруг останавливается, как вкопанная,
и ждет, как поезд на путях.
Я прохожу мимо гостиницы в восемь и в пять,
в проулке кошки, бутылки, пьяницы.
Я смотрю на те самые окна и не знаю,
где ты и что с тобой.
Я иду дальше, и мне хочется спросить —
куда уходит жизнь,
когда останавливается?
Джейн
Джейн – с любовью, которой не хватило
Я тронул юбку,
тронул черный поблескивающий
бисер —
то, что прижималось когда – то
к телу,
и сказал Господу:
Ты – лжец,
все – сказал я – что
так прижималось
или знало мое имя —
оно не может умереть
по заведенному распорядку смертей,
и я взял в руки
ее прекрасную одежду,
эту ушедшую красоту,
и сказал, чтоб меня слышали
все боги,
еврейские боги, христианские боги,
мерцающие осколки, идолы,
пилюльки, хлебы насущные,
глубины, случаи, риски,
заранее все спланировавшие,
наварившие на этих двух расставшихся безумных,
у которых не было ни одного шанса,
комариные планы, комариные шансы,
и я склонился над этим,
склонился над этим всем,
зная —
у меня в руках ее одежда,
но саму ее
они уже мне не вернут.
Веселая ночь в городе
надравшись, идешь по темным улицам какого – то
города,
ночь, ты заблудился, где твоя конура?
зайди в бар вспомнить кто ты.
закажи виски,
на стойке лужи,
рукав рубашки намокает.
Тут мухлюют – виски разбавленное.
закажи бутылку пива.
Сестричка Смерть в откровенном платье
подходит, садится рядом,
закажи для нее пиво,
от нее пованивает болотом,
прижимается к тебе бедром,
бармен скалит зубы.
Ты напрягаешь его,
он не знает, кто ты —
мент, киллер, псих или идиот.
попроси дать водки,
налей ее через горлышко в бутылку с пивом.
Час ночи в тупом дохлом мире.
Узнай у нее, сколько будет с носа,
пей до дна из бутылки,
на вкус – машинное масло.
Уходи, оставив Сестричку Смерть,
оставив бармена с ухмылкой на лице.
Вспомни вдруг, где твоя конура,
конура с непочатой бутылкой вина
в шкафчике,
конура, где пляшут тараканы.
Хрустальная Звездная Срань,
среди которой любовь померла со смеху.
с английского
авиахим
мне уже вот – вот надо было на вокзал и я собирался
смотрел на утренние субботние балконы
свет столько света
женская стирка на веревках
грустные мотыльки за час до отъезда
я что – то слышал об этом празднике
видел людей что все шли на ипподром
десятая годовщина революции
цеппелины пламенели в небе как красные сердца коммунаров
и молоко на еврейском рынке нагревалось
покорное и тихое как гонимые апостолы
я даже глянул вверх надеясь хоть что – то разглядеть
и маленький резвый самолет уже кружил над трибунами
молодые авиаторы стояли на поле
как потрепанные библии
держа в руках записные книжки с номерами телефонов
перебирая в карманах арахис и презервативы
глядели как самолет вдруг начинает падать
и пилот чтоб не врезаться в зрителей
направляет его на деревья
и я подумал боже блажен твой разлившийся свет
спасены твои дети что курят черный табак
спасены курильщики с пальцами коричневыми
как зрачки больных желтухой
спасены распорки твоих крыльев
все что переполняет нас
размеренность летних рассветов
роса на окне женский голос зовущий с балкона
переломленный как роза хребет авиатора
сладкий голубой воздух его противогаза
Паприка
На зеленые вспышки в овощей,
за двумя подростками, что взялись за руки,
идти по вечернему супермаркету —
девочка выбирает лимоны и сладкий перец,
дает подержать своему парню, и, засмеявшись, кладет обратно.
На часах без десяти десять, они долго ссорились,
она хотела от него уйти, он уговорил ее остаться;
в карманы натолканы зеленые предметы,
золотые ассирийские монеты, таблетки от боли,
сладкая любовь, колдовская паприка.
вынесите наружу, ну, вынесите влажную душу —
каждый умерший плод, его земляничную кровь,
рыба, попавшая под винты старых пароходов в южных штатах,
фаршированная серьгами и шпильками панков,
стонет от кофеина в жабрах, черных болезней,
зеленого света, словно просит
вынесите, ну, вынесите меня отсюда к ближайшей стоянке,
ближайшему автосервису, к ближайшему холодному океану,
словно показывает, выгибаясь влажными душами,
пока винты в небесах над вечерним супермаркетом
кроят набухший соками воздух и кофеин запекается под ногтями
вынесите, ну, давайте, спрячьте в карманах теплые зеленые вспышки,
положите под язык серебро и золотые монеты,
к ближайшему убежищу, ближайшему стадиону,
кровь за кровь, господь нас зовет, шевеля плавниками
Потому что так, как он схватился за нее,
я не смогу никогда ни за кого схватиться,
мне не дает безразлично пройти мимо эта мертвая плоть,
я слишком долго не решался, не в силах двинуться,
чтобы теперь не пойти за ними.
Ты ведь знаешь, что их ждет, правда?
там, где ты сейчас, там, где ты оказалась,
ты можешь все сказать им заранее —
еще два – три года золотого полудетского замирания в июльской
траве, растрачивания монет на отраву, и все —
память заполняет в тебе место, где была нежность.
Потому что так, как она боится за него,
я не смогу никогда ни за кого бояться,
потому что с такой легкостью, с какой она кладет ему в руки
эти теплые лимоны, я не смогу никогда никому ничего отдать;
пойду и дальше за ними
в долгих изнурительных сумерках супермаркета,
наступая на желтую траву,
держа в руках мертвую рыбу,
отогревая ее сердце
своим дыханием,
отогревая свое дыхание
ее сердцем.
Мормоны
Мормоны выстроили
церковь рядом с театром, разбили
пару клумб, многие теперь договариваются
встретиться именно там;
веселые, улыбчивые мормоны в строгих
костюмах, бледные после кровавых сумасшедших
уик-эндов.
В новых церквях явно что – то делают с кислородом —
их прихожане собираются поутру, вынимают
все эти шаманские штуки, окровавленные пружины,
хромированные крюки, на которые
вешают жертвенные радиоприемники,
и пишут кровью на стенах —
того, кто дошел до этого места, уже не остановит наш голос,
того, кто прочел эти надписи, уже не спасет ни одно учение,
идя по кровавому следу своей любви, помни
о ядовитых змеях, что лежат на дне пакетов с биомолоком.
Когда я стану мормоном,
я буду стоять с друзьями на солнечной стороне улицы,
смеяться и разговаривать о погоде:
я каждое утро вычищаю из – под ногтей кровь,
потому что я каждую ночь раздираю грудь,
стараясь вырвать все лишние сердца,
что каждую ночь вырастают во мне,
как земляные грибы.
Минздрав
В окно больницы были видны яблони.
В это лето они так прогибались под тяжелыми
дождями, что в нижних ветках запутывалась
трава.
По утрам двор был пуст.
Знаете, летом есть несколько таких дней,
нет, не то чтобы самых длинных, скорее – размытых.
Еще пара дней – и все, конечно, проходит,
а потом и, вообще, начинается осень.
Но в те дни, часов в семь
в светлом небе видны были звезды,
что тускнели и гасли.
Женщины напоминали чеченских снайперш —
как у чеченских снайперш у них
были исколотые анестетиками вены
и злые глаза.
А мужчины напоминали просветителей Кирилла и
Мефодия – как и просветители Кирилл и
Мефодий, они были в длинных халатах,
а в руках держали свои истории болезни,
похожие на первые переводные Евангелия.
Утром, когда они выходили в сад и
курили, звезды постепенно исчезали
и шелестела трава.
Блаженно имя господне, – говорил
Кирилл. – Блаженны руки его,
из которых получаем мы хлеб ежедневный.
Сестра-сучара, – переводил Мефодий
кириллицей. – Опять зажилила морфий.
Маляву писать надо, а то все без понта.
И снайперши склонялись к их ногам,
омывая стопы дождевою водой.
Есть непередаваемая стойкость в мужчинах,
что выходят на больничный двор:
всю жизнь работать на свою страну
и, наконец, получить от нее
холодный серый халат —
из рук твоих, родина, смерть хоть горька,
но желанна, как хлеб в войну.
Порой выходили сестры – плакальщицы
и просили самых крепких
вынести очередной труп.
Тогда мужчины шли,
а женщины держали в пальцах
их сигареты,
что тускнели, тускнели
и постепенно
гасли.
с украинского
Тарас Бульба – безумец или пророк?