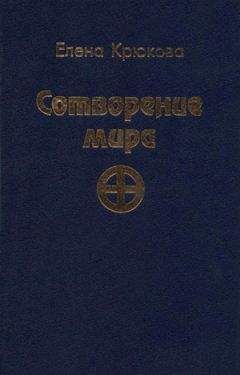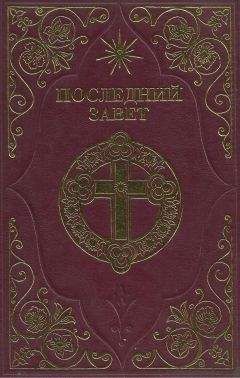Ознакомительная версия.
«…Зову к тибе аньгела, старичок мой Васятка. На третью операцыю тибя увезли. А я все упоминаю, как мы с тобой Васятонька мой спозналис, а твоя матерь — свекровь моя Царствие ей небесное все очень зла на меня была, сердилас шибко што я на цельных два года старше тибя была. Так и называла меня: старуха, больше и никак а однажды мы с ней в баню пошли, пару шибко наподдавали — она Царствие ей небесное уж парится любила Ну разделис и тут Ульяна дмитревна начала меня высматривать всю как я есть только што в зубы не заглянула вся скривилас сморщилас вроде сморчка и говорит: старуха ты и есть старуха гляди куды ж это годитси на животе на боках подушки под щеками да на шее — маленьки подушечки вся в подушках а што ж дальше будет в дверь не влезешь больно толста барыня раскормили тя в родительском-та доме. Он жа Васька тибя таку толстуху засмеет мужики таких не любят им штобы поцаловать
бабу не подушка а шея лебединая надобна. Д а и глаза у тибя маленьки да раскосы мордовски што это за глаза таки, туту и глаз-та нет одне щелочки. За што только тибя Васька взял, ума ни приложу. А я как давай плакать, села на лавку а слезы градом — в шайку с кипятком. И не знаю што сказать а знаю што все неправда это. Ну, кака же баба без живота робенка гдей-та носить вить надо. И плачу и плачу и остановитса не могу. А мать твоя свекровь моя все не унимаетса, и то ей не так и другое. Тут я Васенька не выдержала и встиала голая рядом с шайкой как царица кака, выпрямила спину и говорю, Ульяна дмитревна он меня любит а я люблю ево. И я все в нем люблю, и он во мне все И вот она как взовьется чуть меня кипятком ни ошпарила Дура говорит Любовь-та надо сохранять а то фить — и нетути ее ищи-свищи. Штож Васяточка мой она старая мудрая уж тогды была она была правая мать твоя. А я плохо хранила нашу любовь вить у тибя женщыны были и я про это знала вопщем-то. Но уж молчала и все тут. Хотя сильно плакала и подушку в рот пихала штоп ты не услыхал каки по ночам твоя жена концерты закатыват. Но ты и всего не знаешь, а я повинитса тибе хочу у меня веть тоже были случаи. Я уж уйти намеревалас от тибя совсем ты уж прости. Он почтальон наш был а ты на заработки тогды в Тюмень уехал, на нефтепровод. Вот он и повадилси, от мужа писем ждете нету все вам писем да так и вздохнет и поглядит хорошо так не погано а тепло аж горячо сердцу сделатса и щас горячо когда пишу. А ты как назло ничево не писал што ты там делал ума ни приложу работа работой а остальное время пьянствовал што ли. И вот этот-та и понял мужик што семьи тут нету или просто уж я так ему понравилас. Вить мужики как: им свобода дана вот они и петушатса а мы им голову на грудь приклоням потому што женщына всегды полюбит тово кто за ней бежит да хвост распускат. Но не в том тут дело было, я уж из тех возрастов вышла штоп на ухаживанье клевать. А попросту полюбил миня человек ну и я Васяточка я грешница так и казни миня я тоже. В прочем все думаю голову старую ломаю гдеж тут грех особый ну полюбили двое людей друг друга и што им делать-та прикажеш вить Васенька любовь она всегды святая так я думаю. Это только когды без любви это грех. А если любовь нет, не грех. Только никака ведунья не подскажет как тут быть если и ты замужем и у него семеро по лавкам. Так мы и встречалис бог знат где почитай два раза в году на Пасху да на Рождество, вот и нет ничево, а ты так ничево и не знал я вить была как мышь запечная ни словца ни сбрякнула. А ты тогды начал попивать всяки дружки набежали в холодильнике то и дело прятал чево выпить я ругалас а ты все кричал: што ругаишса, глянь на сибя в зерькало, кака красавица при таком-та муже стыд ругатса. Не вдомек тибе было Васенька, што не от тибя я така была а от другой любви. Прости мне Христа ради хоть это и не грех. Думаю так што не сложилос у нас с тобой што-та и права была Ульяна дмитревна прости што много пишу расписалас расквохталас старуха, не остановить.
Зачем все это написала, не знаю штобы легше стало на серце все жа помирать скоро я платочек сибе белый и чистое белье все приготовила на случай все лежит в комоде. Жду тибя из больницы как можно скорее поскрипим еще небо покоптим. Я тибе послала с люськой лимонов она из Москвы привезла каки-та витамины в них еще яблоков овсяного печенья и не кури много сильно прошу тибя, поживи еще на белом свете. Я чуствую сибя хорошо, нога сильно болит пью лекарство Люська привезла бруфен. Ну вот Васяточка мой што это на меня нашло сама не знаю, отправлю с Люськой все равно а то порву а тут вроде как исповеть вить каятса тожа уметь надо мы этово ни умеем ни кто. Целую тибя свет мой на множество лет и обнимаю крепко. Доктору Вере Васильевне кланяйса она просто аньгел, ее бог послал. От Ивана Митрофаныча поклон и он тибя ждет не дождетса на рыбалку карасей таскать с лапоть.
Твоя жена Серафима Антоновна»
…Письмо нашли в залатанной авоське,
Где золотели толстые лимоны,
Овсяное печенье раскрошилось.
И смертное белье нашли в комоде,
Как указала. Лишь не отыскали
Отглаженного белого платка,
О коем — лишь одна скупая строчка
Во исповеди щедрой и великой.
ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Так устала… Так вымоталась, что хоть плачь…
Дай, Господи, сил…
В недрах сумки копеешный сохнет калач.
Чай горький остыл.
Здесь, где узкая шпрота на блюде лежит,
Как нож золотой, —
Сознаешь, что стала веселая жизнь —
Угрюмой, простой.
В этом городе, где за морозом реклам —
Толпа, будто в храм, —
Что останется бабам, заезженным — нам,
Исплаканным — нам?..
Эта тусклая джезва?!.. И брызнувший душ…
Полотенце — ко рту…
И текущая грязью французская тушь —
Обмануть красоту…
И неверный, летяще отчаянный бег
В спальню… Космос трюмо —
И одежда слетает, как горестный снег,
Как счастье само…
И во мраке зеркал — мой накрашенный рот:
Сей воздух вдохнуть
И подземный пятак из кармана падет —
Оплачен мой путь.
И на бархате платья темнеющий пот
Оттенит зябкий страх
Плеч худых — и, как солнечный купол, живот
В белых шрамах-лучах…
И когда просверкнет беззащитная грудь,
Сожмется кулак, —
Я шепну: полюби меня кто-нибудь!
Это — просто же так…
Пока грузы таскаю, пока не хриплю,
Отжимаю белье,
Пока я, перед зеркалом плача,
люблю
Лишь Время свое.
ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ПИСЬМО ЗАКЛЮЧЕННОГО
…Что мне делать с пронзительным зреньем моим?
Даже доски гробов,
Даже тот сигаретный, тот зэковский дым
Излучают любовь.
Я под лампой подъездной такое письмо
Пью глазами взахлеб,
Что кладется судьбы ледяное клеймо
На горячий мой лоб.
Этот почерк убогий. Тетрадный листок.
Цифирь: лагерный шифр.
И пятнадцатилетний — убийственный — срок.
Хорошо еще — жив.
Я впиваюсь глазами: держись, человек!
Беспредел будет — там…
Ты о чем же мне пишешь, товарищ мой зэк,
Брат ты мой по судьбам?
Что мы, сытенькие, что мы знаем о вас?!
Что вы пьете — чифир?
Что вас бьют и под дых, и особо — меж глаз,
Чтоб туманился мир?
Что — воловья работа и песья еда?
Что — мороз в зонах лют?
Что от нечеловечьего, злого труда
В тридцать — кости гниют?..
Брат мой зэк, я читаю каракули строк
И от боли реву:
«Отсидел почти весь присужденный мне срок.
Удивлен, что живу.
Был женат. Дочь не видел. Давно развели.
Что и кто меня ждет?
Ну вот выйду. И что? И куда — без любви?
Без нее — всяк помрет.
Познакомимся, Лена! Читал я Ваш стих,
Где у зеркала Вы
Все горюете — нету родных, дорогих,
Нет как нету — любви!
Может, мы друг для друга и будем судьба?..
Познакомимся, а?..
Вы не думайте плохо: вот зэк, голытьба!..
Изболелась душа.
Вот мечтаю, что выйду, и свидимся мы!
Будем делать дела…
И не будет паршивой сибирской зимы,
Что мне почки сожгла…
Ну, а если ошибка, не в ту постучал
Задубелую дверь, —
Извините, что это письмо написал,
До свиданья теперь…»
* * *
Братец, как же?.. Сжимаю я в хруст кулаки,
Закусивши губу —
От пятнадцатилетней барачной тоски,
Что тащить на горбу…
Ты зачем мне все индексы вывел свои?!
Ждешь ответа небось?!
Ждешь нежнейшей, желаннейшей женской любви,
Ты, чей хлеб — мат и злость?!
Брат мой! Что же тебе я в ответ напишу?
Что другого люблю?
Что другому молюсь, на другого дышу,
Хлеб с ним, душу делю?!
И представлю, как ты получаешь мои —
Курьей лапой — листки, —
И, скривясь, волчьи скалишься: нету любви! —
И скулишь от тоски…
Как представлю я это, как воображу —
И — айда на вокзал,
И — безумье: вот сына тебе я рожу!
Ты ж про дочку сказал…
Что содеял ты там — согрешил ли, убил,
Иль тебя упекли
Ни за что — все равно ты в сей жизни любил,
Брат мой с мерзлой земли!
И пускай роговицу там ест мерзлота,
Плачет жизни предел —
Я люблю тебя, брат.
Я стою у Креста.
Ты — любви захотел.
ВОСТОЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ ХУДОЖНИКА, ЖИВУЩЕГО В КВАРТИРЕ №… ПОД ЧЕРДАКОМ
Открываю глаза.
Розовое плечо
Неровным светом освещает
Неприбранный стол
Жизни моей.
* * *
В Сухуми,
В кофейне греческой мы пили кофе.
А ночью в лодке,
Привязанной ко ржавому буйку,
Кофейное я тело целовал,
И пахло йодом и веселым эвкалиптом
Под плачущею синею Луной.
Где эта девочка?..
В ладье какой плывет?..
…Я слишком редко захожу в кофейни.
* * *
Беру губами черничину соска.
В запрокинутой улыбке —
Звездами — зубы любимой.
Под спину ей ладонь кладу,
И тело изгибается дельфиньи,
Как от ожога.
* * *
Подлесок чахлый.
Фольговые блюдца озер.
Прозрачна кровь холодных ягод. Север.
И продавщица раков —
Щеки розовы, как плавники сорожки, —
Рослая, глаза — бериллы, волосы — соломой,
Натура Дионисия,
Стоит с корзиной; раки
Громадные — хвосты как веера.
Стоит и смотрит.
И на нее смотрю.
Поцеловать бы медный крестик на бечевке
В ложбине меж холмов!..
Я покупаю всю корзину.
Поезд
Всего лишь пять минут стоит.
* * *
Силен и яростен удар копья!
Но я
Внезапно ощущаю — льется нежность
Растаявшею вечной мерзлотой…
* * *
Отец рассказывал про эвенкийку.
Во льдах — стоянка близ Таймыра. Диксон.
Село заброшенное. Женщины — рогожек наподобье.
Отец в избу зашел — и узкие глаза
Прошли через него навылет.
* * *
Преследует виденье:
Красавица на станции космической, одна.
Все ждет — ее спасут.
Под сердце входят иглы звезд.
…Такая одинокость
На Земле бывает тоже.
* * *
Пишу нагое тело. Весь в поту рабочем,
в рабочей слепоте!
Вдруг прозреваю — вижу женщину
с козьими лукавыми глазами,
Широкобедрую.
На щеки всходит краска.
Работа вся насмарку.
* * *
Встань, милая,
Как Марфа со свечами
В тяжелых кулаках!
И погадай, сколь в этой жизни
Еще любить тебя я буду.
* * *
…Она ничком лежала на кровати.
Я подошел и нежно, еле слышно,
Прося прощанья,
Губами сосчитал худые ребра.
* * *
Я кланяюсь возлюбленному телу!
Я, ударяя кистью дико по холсту,
Люблю, люблю —
И на холсте, гляди-ка,
Из маленьких грудей твоих,
Что прячешь в лифчик
Застиранный,
Великий Млечный Путь
Сапфирами по дегтю неба брызжет!
* * *
Как я люблю твой золотой живот!..
То — мир,
Куда вхожу я, раздвигая тучи,
И молния моя летит отвесно
В могучий мрак океанийский твой!..
* * *
Жара и Астрахань!
Купаются цыганки.
По набережной пыль летит,
И ветер гонит воблы чешую.
На песке — гигантскими цветами — юбки, тряпки…
Одна цыганка вышла из воды,
Черна, как головешка.
Я замер
От первобытной красоты ее.
* * *
Идем по выставке.
Висит монисто — экспонат.
«Хочу такое. Сделай мне!..» —
сказала ты, смеясь.
Я увидел: чешуя монет
Играет меж грудей твоих веселых.
* * *
Читаю я псалом Давида
По-церковнославянски.
Не понимаю ничего.
Вдруг глаза закрою —
Из тьмы дегтярной
проступает тело женское
Сияньем Северным — до головокруженья…
Зачем на казнь я эту обречен —
Всегда в всюду видеть
Красоту?..
* * *
Мы сплетены, как две ладони:
Маленькая и большая.
И в ритме древнем,
Смеясь, качаясь, плача,
Баюкаем друг друга —
До самой смерти… самой смерти…
самой…
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. КВАРТИРА……….(НОМЕР СТЕРТ)
…Он разомкнул ей колени горячею тяжкой рукою.
Телом на тело налег, обряд поклоненья творя.
Ребра так в ребра вошли, как подошва в размытую глину
Проселочной скудной дороги. Слегка застонала она,
Чуя: сбудется все, что никогда не сбывалось.
Острыми земляничинами встали, твердея, соски
И — закруглились, мерцая печально, холмы снеговые,
Полем метельным живот лег под белое пламя руки…
И, обнимая ладонями всю ее — впадины все и ложбины,
Он головою склонялся все ниже, все ниже, целуя
Родинук — чечевицу — под левою грудью,
Обрыв — будто к Волге! — ребра:
Точно как берег крутой,
красноглинный,
обрывается резким откосом.
И задрожал тут живот — волны пошли по нему…
И поднялась краска ярчайшая ей на запавшие щеки:
Губы его прошлись по старым,
затянувшимся шрамам и швам,
Их освящая — навек,
Запоминая — навек,
Ибо запомнить в любви не зрение может, не слух —
Только лишь губы, дрожа, вспоминают любимые губы,
Только лишь пальцы, пылая,
Помнят все бездны и горы любимого тела…
Щеки силнее горели: он ниже склонялся главою,
Ноги руками раздвинул — плавно подались они…
Губы мужские, дрожа от любви,
отыскали вслепую то место —
Малый тот жемчуг,
слепой бугорок
неистовой женской природы —
И влажный от жажды язык
Драгоценный, соленый тот жемчуг нащупал —
И ласкою масленой, винной вдоволь его напоил…
Волны томленья пошли по широкой реке женского тела.
Все потемнело в глазах.
А мужчина ей руки на грудь положил,
Не отрывая горячечных уст от горящего лона, —
И оказались темные ягоды меж крутящихся пальцев его,
И невозможно снести все это было — женщине смертной!
И застонала она.
И взял он руками ее
За полушарья планет,
Катящихся мимо единой жемчужной звезды,
И язык его в темный Космос ее вдруг, крутяся, вошел —
предвестием будущей воли,
И застонала сильнее она,
И ногами его голову сжала.
Встал он над нею.
И тут увидала она — хоть глаза ее сомкнуты были! —
его золотую свечу,
Медом текущую,
Молоком неудержным,
Лучезарным сияньем мужским!
И взяла свечу она в руки,
И ею водила по пьяным от счастья губам,
по щекам и по скулам,
Он же за плечи держал любимую, так напрягаясь,
Чтоб раньше времени
Ярый воск ей по щекам не потек…
И сказала она, задыхаясь:
«Ложись. Я тебя поцелую —
Так, как хочу, и столько, сколько хочу — и ты этого хочешь…»
И так золотую мужскую свечу она нежным ртом разжигала,
Что смертный не вынес бы этого! —
он же лежал, разгораясь,
И когда уже прибой мучений достиг берегов,
И почуяли оба,
Что умереть от любви — то не сказка, то быль! —
Он повернулся внезапно — и оказался над нею,
И не сразу, не сразу
Золотая свеча его
В смоляной ее Космос вошла:
Он свечу подносил — зажигал темноту — и вытаскивал снова,
И опять, и опять, —
До тех пор, пока так не взмолилась она:
«Не могу!.. Умираю…» —
и луч в самую темень ударил!
И застыли на миг возлюбленные!
Обвила она его крепко ногами,
Он — все глубже входил в океаны ее, в подземелья,
Все глубже, все крепче,
все нежней, все сильней,
все больнее —
и все нестерпимей…
И сильнее сжималось вкруг горящей свечи
тугое кольцо
ее темного лона,
И он целовал ее рот —
так безумный в жару
пьет лекарство из кружки больничной,
Так старуха пред смертью целует икону,
Так целуют друг друга люди — перед навечной разлукой!
И катились по мокрым щекам ее светлые слезы!
И кровати под ними уж не было —
они над Землею летели,
Крепко сплетшись — теперь не разнимет
никогда и никто их, —
И вздымался над нею он, плача, и вновь,
и опять опускался,
И вздымалась навстречу она,
и зубы в царской улыбке блестели,
И катился, как яхонты, пот по ложбинам —
меж грудей, меж лопаток!
А свет, зажженный свечой золотою, все рос, все мощнел,
И когда уже стал совсем нестерпимым, —
Разорвался ярким шаром внутри! И оба они закричали,
Закричали, смеясь и плача от счастья,
От посмертного, дикого счастья,
что — умерли вместе…
* * *
Не речь, не стон, — уже забили рот
Навязшими, дрянными словесами…
Забыл язык любви немой народ.
Мы как-нибудь. Мы выдохнем. Мы сами.
Мы вышепчем, мы выкряхтим — устал
Мир от газет, от слэнгов да от фени…
Отверсто слово, яркое, как сталь,
Восставшее из «слушаний» и «прений»…
Любовные романсы — черт те что!.. —
Березки, слезки, ах… — покинул милый… —
На кухне на пол он бросал пальто.
Из рук, как зверя, я его кормила.
Соседок через стену легкий храп
Висел, как дым, мешался с воем вьюги…
Его веснушек непочатый крап…
Его — канатно жилистые — руки…
Наш чай… Комочки сахара на дне
Не тают… Пьем и губы обжигаем…
И я в тебе. И ты уже во мне.
И мы летим. И Время настигаем.
И в общежитской кухне, на полу,
На холоду, близ чахлой батареи
Летим, летим, собой пронзая мглу,
Собой друг друга — меж смертями — грея.
ПИСЬМО ЗАБЫТОЕ
«Целую тебя, девочка моя!
Ознакомительная версия.