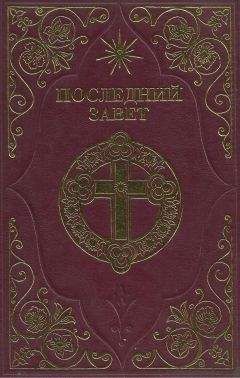Елена Крюкова - Сотворение мира
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Елена Крюкова - Сотворение мира. Жанр: Поэзия издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
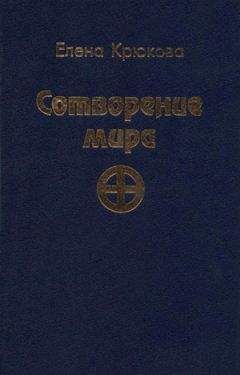
Елена Крюкова - Сотворение мира краткое содержание
Сотворение мира читать онлайн бесплатно
Ознакомительная версия.
«Целую тебя, девочка моя!
Я уж тут всю бурятскую почту проклял — от тебя нет и нет ничего. Поздравляю тебя с праздником! Будь всегда самою собой! И просто — будь!
Говорю это еще и потому, что и я устал от потерь.
Я не вылезаю из своего медвежьего угла. Машина иногда уходит в Бараты, за тем или этим, шофера-салаги про почту забывают.
Завтра от нас уезжает машина в Иркутск, и уж с ней я отправлю это письмо — оно дойдет. Горы здесь — в сравнении с Саянами — легкие. Я бы очень хотел показать тебе Забайкалье и обнять тебя под его жестковатым Солнцем.
Милая моя, уже, наверное, два часа ночи. Завтра много работы. Еду на буровую. Я сижу, как Пушкин, со свечой… Вокруг вагончика. Ветер, дикий холод, зеленый снег, наверху — колючие звезды… Как мало в жизни тепла. Как мало в жизни счастья. И жизнь сама маленькая. Если бы у меня был дух, исполняющий желания. Целую и обнимаю. Моя.
Твой.
Я тут стих тебе написал.
СТИХПоложи меня, как печать,
На свое золотое сердце.
Мне любить тебя и звучать
Под рукою — до самой смерти.
А на смуглой твоей руке,
На узлах ее сухожилий
Я останусь и вдалеке —
Как кольцо твое:…жили-были…»
Ты не бойся, мой желанный… Я про все тебе скажу.
Молоком топленым, теплым напою. И уложу
На скрипучую, большую, на широкую кровать.
Сама лягу рядом. Буду говорить — и целовать.
Расскажу я все, мой сладкий, ничего не утаю:
Как упрятывала наспех в чемоданы — жизнь мою,
Как стояла у Байкала на сквозном тугом ветру,
Как укрыться не желала ни в заимку, ни в нору.
Как почтамты дико пахнут шоколадным сургучом…
Как кричащий рот мой — потным закрывал мужик плечом…
Как на Пасху, чрез милицию, мы в Церковь прорвались —
Хохоча, близ аналоя — Адам с Евой! — обнялись…
Как о брошенном ребенке слезы точатся ручьем…
Как в толпе бензинной, вьюжной серафимами — вдвоем
Мы парили… Как считала я монеты: позвонить
За пять тысяч километров — чтобы не порвалась нить!..
Как однажды — в тридцати-скольки-там-градусный?.. — мороз
Он, с автобуса, румяный, глухарей едва донес —
Ох, тяжелые!.. А перья!.. А разделывать-щипать!..
А — над всей стряпнею — голос: «Ну, так ты хозяйка, мать…»
Что же, Время, ты содвинуло синеющие льды?!
Слушай, суженый-сужденный! Далеко ли до беды:
Ну как завтра мы простимся — не успею досказать,
Не успею жар кольчуги поцелуйной — довязать!..
О, я так его любила!..
…А тебя — люблю сильней…
О, я так его забыла!
…А тебя забыть — страшней
Пытки нету: лучше сразу
Головою — да в Байкал,
В синий зрак земного глаза,
Чтоб не помнил. Не искал.
…Сине-черная тьма.
Ангара подо льдом изумрудным.
Заполошный мороз — режет воздух острее ножа.
Бельма окон горят.
Чрез буран пробираюсь я трудно.
Это город сибирский,
где трудно живу я, дрожа.
Закупила на рынке я мед
у коричневой старой бурятки.
Он — на дне моей сумки.
То — к чаю восточному снедь.
Отработала нынче в оркестре…
Пецы мои — в полном порядке…
Дай им Бог на премьере,
Как Карузам каким-нибудь, спеть!..
Я спешу на свиданье.
Такова наша девья планида:
обрядиться в белье кружевное, краснея: обновка никак!.. —
и, купив черемши и батон,
позабыв слезы все и обиды,
поскорее — к нему!
И — автобусный жжется пятак…
Вот и дом этот… Дом!
Как же дивно тебя я весь помню —
эта ченткость страшна,
эта резкость — виденью сродни:
срубовой, чернобревенный,
как кабан иль медведь, преогромный,
дом, где тихо уснули — навек —
мои благословенные дни…
Дверь отъехала. Лестница
хрипло поет под мужскими шагами.
«Ах, девчонка-чалдонка!..
Весь рынок сюда ты зачем воловла?..»
Обжигает меня, раздевая, рабочими,
в шрамах драк стародавних, руками.
Черемша, и лимоны, и хлебы, и мед —
на неубранном поле стола.
Разрезаю лимон.
«Погляди, погляди!.. А лимон-то заплакал!..»
Вот берем черемшу прямо пальцами —
а ее только вместе и есть!.. —
дух чесночный силен…
Воск подсвечник — подарок мой — напрочь закапал.
И култук — мощный ветер с Байкала —
рвет на крыше звенящую жесть.
И разобрано жесткой рукой
полупоходное, полубольничное ложе.
«Скоро друг с буровой возвратится —
и райскому саду конец!»
А напротив — озеро зеркала стынет.
«Глянь, как мы с тобою похожи».
Да, похожи, похожи!
Как брат и сестра,
о, как дочь и отец…
Умолчу… Прокричу:
так — любовники целого мира похожи!
Не чертами — огнем.
Что черты эти ест изнутри!
Жизнь потом покалечит нас,
всяко помнет, покорежит,
но теперь в это зеркало жадно, роскошно смотри!
Сжал мужик — как в маршруте отлом лазурита —
худое девичье запястье,
Приподнял рубашонку, в подвздошье целуя меня…
А буран волком выл за окном,
предвещая борьбу и несчастье,
и тонул черный дом
во серебряном лоне огня.
…Не трактат я любовный пишу — ну, а может, его лишь!
Вся-то лирика — это любовь, как ни гни, ни крути…
А в любви — только смелость. Там нет: «приневолишь»,
«позволишь»…
Там я сплю у возлюбленного головой на груди.
Мы голодные…
Мед — это пища старинных влюбленных.
Я сижу на железной кровати,
по-восточному ноги скрестив.
Ты целуешь мне грудь.
Ты рукою пронзаешь мне лоно.
Ты как будто с гравюры Дорэ — архангел могучий! — красив.
О, метель!.. — а ладонь раскаленная по животу мне — ожогом…
О, буран!.. — а язык твой — вдоль шеи, вдоль щек полетел —
на ветру лепесток…
Вот мы голые, вечные. Смерть — это просто немного
Отдохнуть, — ведь наш сдвоенный путь так безмерно далек!..
Что для радости нужно двоим?.. Рассказать эту сказку
мне — под силу теперь…
Тихо, тихо, не надо пока
целовать… Забываем мы, бабы, земную древнейшую ласку,
когда тлеем лампадой
под куполом рук мужика!
Эта ласка — потайная.
Ноги обнимут, как руки,
напряженное тело,
все выгнуто, раскалено.
И — губами коснуться
святилища мужеской муки.
Чтоб земля поплыла,
стало перед глазами — темно…
Целовать без конца
первобытную, Божию силу,
отпускать на секунду и — снова, и — снова, опять,
пока баба Безносая, та, что с косой,
вразмах нас с тобой не скосила,
золотую стрелу — заревыми губами вбирать!
Все сияет: горит перламутрово-знобкая кожа,
грудь мужская вздувается парусом, искрится пот!
Что ж такого испили мы,
что стал ты мне жизни дороже,
что за люй-ча бурятский, китайский, —
да он нам уснуть не дает!..
«Дай мне руку». — «Держись». — «О, какой же ты жадный,
однако». —
«Да и ты». — «Я люблю тебя». —
«О как тебя я люблю».
…Далеко — за железной дорогою —
лает, как плачет, собака.
На груди у любимого
сладко, бессмертная, сплю.
«Ты не спишь?..» — «Задремала…» — «Пусти: одеяло накину —
попрохладнело в доме…
Пойду чай с „верблюжьим хвостом“ заварю…»
И, пока громыхаешь на кухне,
молитву я за Отца и за Сына,
задыхаясь, неграмотно, по-прабабкиному, сотворю.
Ух, веселый вошел!
«Вот и чай!.. Ты понюхай — вот запах!..»
Чую, пахнет не только,
не только «верблюжьим хвостом» —
этой травкой дикарской, что сходна с пушистою лапой
белки, соболя…
Еще чем-то пахнет — стою я на том!
Что ж, секрет ты раскрыла, охотница!
Слушай же байку —
да не байку, а быль!
Мы, геологи, сроду не врем…
Был маршрут у меня.
Приоделся, напялил фуфайку —
и вперед, прямо в горы,
под мелким противным дождем.
Шел да шел.
И зашел я в бурятское, значит, селенье.
Место знатное — рядом там Иволгинский буддийский дацан…
У бурята в дому поселился. Из облепихи варенье
он накладывал к чаю, старик, мне!..
А я был двадцатилетний пацан.
У него на комоде стояла
статуэточка медная Будды —
вся от старости позеленела,
что там твоя Ангара…
А старик Будде что-то шептал, весь горел от осенней простуды,
И какой-то светильник все жег перед ним до утра.
«Чем живешь ты, старик? — так спросил я его. — Чем промышляешь?
Где же внуки твои?.. Ведь потребна деньга на еду…»
Улыбнулся, ужасно раскосый.
«Ты, мальсика, не помысляешь,
Я колдун. Я любая беда отведу».
«Что за чудо!» Прошиб меня пот. Но, смеясь молодецки,
крикнул в ухо ему: «Колдунов-то теперь уже нет!..»
Обернул он планету лица.
И во щелках-глазах вспыхнул детский,
очарованный, древний и бешеный свет.
«Смейся, мальсика, смейся!.. Я палки волсебные делай…
Зажигаешь — и запаха нюхаешь та,
Сьто душа усьпокоя и радось дай телу,
и — болезня долой, и гори красота!
Есь такая дусистая дерева — слюшай…
На Китая растет… На Бурятия тож…
Палка сделашь — и запаха лечисся души,
если каждый день нюхаешь — дольга живешь!..
Есь для каждая слючай особая палка…
Для рожденья младенца — вот эта зажги…
Вот — когда хоронить… Сьтоба не было жалко…
Сьтоб спокойная стала друзья и враги…
Есь на сватьба — когда многа огонь и веселья!..
Вон они, блисько печка, — все палка мои!..»
Я сглотнул: «Эй, старик, ну, а нет… для постели,
для любви, понимаешь ли ты?.. — для любви?..»
Все лицо расплылось лучезарной лягушкой.
«Все есь, мальсика! Только та палка сильна:
перенюхаешь — еле, как нерпа, ползешь до подушка,
посмеесся, обидисся молодая жена!..»
«Нет жены у меня. Но, старик, тебя сильно прошу я,
я тебе отплачу,
я тебе хорошо заплачу:
для любви, для любви дай лучину твою,
дай — такую большую,
чтобы жег я всю жизнь ее… — эх!.. — да когда захочу…»
Усмехнулся печально бурят.
Захромал к белой печке.
Дернул ящик комода.
Раздался сандаловый дух.
И вложил он мне в руки
волшебную тонкую свечку,
чтоб горел мой огонь,
чтобы он никогда не потух.
Никогда?!
Боже мой!
Во весь рост поднимаюсь с постели.
«Сколько раз зажигал ты?..»
«Один. Лишь с тобою.»
«Со мной?..»
И, обнявшись, как звери, сцепившись, мы вновь полетели —
две метели — два флага — под синей бурятской Луной!
Под раскосой Луной,
что по мазутному небу катилась,
что смеялась над нами, над смертными —
все мы умрем! —
надо мною, что в доме холодном над спящим любимым
крестилась,
только счастья моля
пред живым золотым алтарем!
А в стакане граненом
духмяная палочка тлела.
Сизый дым шел, усами вияся, во тьму.
И ложилась я тяжестью всею,
пьянея от слез,
на любимое тело,
понимая, что завтра —
лишь воздух пустой
обниму.
Красавица лежит
В сугробах простыней.
На пышном теле — бездна бликов и огней.
Да это я!.. — Ах нет, это Даная…
Рыдает ангел, руки сжав, над ней…
Причесывайся, рыжая натурщица.
Свободная рубаха
Похожа на тюремный балахон.
Глаза прищурены:
Огонь волос слепит их.
Ты заработалась, замерзла. Отдохни.
Мой друг рассказывал:
Пришел в трущобы, к проститутке.
Она разделась.
В свете абажурной лампы
Сверкнули беззащитные ключицы.
В соседней комнате ребенок запищал.
За окнами слепая Волга стыла.
Он вывалил из кошелька деньгу,
Послал подальше власть и государство.
Дверь хлопнула, как крышка сундука.
…Ох, смеясь, я девчоночку эту пишу!..
Рассказать ее случай из жизни — прошу…
«Родила я в пятнадцать годков… Ой, что в школе
Было — ужас!… Не думайте, я не брешу…»
Голая девушка
Сидит вполоборота.
Худой рукой поддерживает грудь.
Лопатки ходят знобкими тенями.
Весь перламутр и позолота
Ушли на глину круглых плеч.
Глаза синей, крупнее слив.
Струятся волосы ручьями
По шее снеговой!
…Такой и я бываю
После целой ночи
С любимым.
Ты — нагая — по черному небу летишь!
Груди — Луны! И вся — медным Солнцем горишь!
Вот он, Космос, который — во мраке постели,
Где — от боли великой в подушку кричишь…
Ты тихо пальцы на бедро мне положил.
Дрожь меня пронзила.
Ты понял — и пальцы поменял на губы.
Люди, в любви соединяясь,
Прекрасны дикой красотой.
Ее писать — ну разве
Хвосты быков обмакивая в кровь,
На стенах
Пещер,
Где росписям потом молиться будут!
Разденемся. И лишь: люблю, люблю, —
Твердим, твердим, твердим, как во хмелю…
За это слово нам грехи простятся.
Весь Ад я этим словом
отмолю.
Мы все меняем — лики и года.
Мы все меняем — вьюги, поезда.
А сами думаем, что мы-то — неизменны!..
А глянешь в зеркало — ох, не гляди: беда…
О, как, смеясь, отец меня писал!
Как на холсте меня он рассказал!
Во всех стихах я так себя не выдам,
Как отразил он — в самом страшном из зеркал…
Вжимаюсь, плачу, глажу — и слепну я опять…
О тело человека, тебя нам не понять —
Зачем — насущней хлеба,
Зачем — потопней вод,
Зачем — святей молитвы любимый жадный рот?..
…Газета мятая. И ложка — серебром.
И дом мышиный, предназначенный на слом.
Стою, как гренадер! И золотое зеркало твое
Вбирает снежной бездной
Мое черное белье…
Мой пряный, мой сухой Пантикапей!..
Плесни-ка, море, мне в стакан, налей…
Я молодость мою запью тобою —
Любимым все сильнее и скупей.
Плоть яростная женская груба.
Откину прядь прилипшую со лба.
Прости, любимый. Нежности не знала.
О нежности твоей — моя мольба.
Так нарисуй меня!.. А как?.. Вот так:
Монисто звонкое — как золотой карась — пятак,
И пестрядь юбок, и платок расшитый
Горит костром! На скулах — дикий мак!..
Цыганочку себе нашел?.. Гляди:
Тебя крестом запрячу — на груди…
Тебя с собой — во вьюгу унесу…
В кулак зажму… От сытости — спасу…
Ох, сколько там времен?.. На стрелки глянь:
Пора идти… Расшита снегом рвань
Посконной да холщовой нашей жизни…
Ну, с Богом. Поцелуй меня и встань.
Остались два печенья на столе.
Окно горячее — на выстывшей земле.
Остались мы, идущие по миру
Уже поврозь — в казнящей, хищной мгле.
«Любимая!..» — Но в зеркале — не я,
А в трещинах, морщинах — плоть моя…
И ты — старик… Не плачь. Тебя люблю я —
На берегу иного Бытия.
Старушка буду ведь!..
Скорей гляди:
Вздымается, идет волна груди…
Люби, покуда я не почернела!..
А там — пойдут холодные дожди…
А там — дожди косящие пойдут,
Слезящийся огонь очей зальют…
Еще, любимый, есть в запасе Время.
Еще не скоро наш Последний Суд.
— Ты за каждою дверью видишь — себя.
— Такая судьба.
— Ах, нахалка, да ты ж еще — молода!
— Да.
— А за этою дверью — что гудят?..
— Свадьбу — гости глядят.
— Чью?.. Неужто — твою?!
— Слушай, что пою.
Все по рынкам, по вокзалам, по миру скиталась.
Не краса была — а сила. Не любовь — а жалость.
Как вкусна вода из баков железнодорожных!
Близ гостиниц — вой собаки — отсветом острожным…
Сколько раз — в подушку криком: эх, судьбу узнать бы!..
Вот — сияю ярким ликом. Дожила до свадьбы.
Серьги — капельками крови. Дрожу, как синица.
Сколько было всех любовей, — может, эта — снится?!
Вспомню: боль… Пиджак на стуле…Писем вопль упорный…
В самолетном диком гуле — плач аэропортный…
Рюмки на снегу камчатном ягодами светят.
Сойкой в форточку влетает резкий зимний ветер.
Только счастья нам желают, нашу бьют посуду,
Только я тебя целую, все не веря чуду!
И когда средь битых чашек нас одних оставят —
Наши прошлые страданья ангелы восславят.
Горечь лифтов
ноздри прожгла.
Вдоль по стенкам — надписей шрам.
Где-то здесь я была. Жила.
Здесь — залеченный жизни шрам.
Под пятою подъезд гудит.
Я бегу. О! Я узнаю —
Маргарин первобытно смердит,
И аккорд гремит,
как в Раю…
Ты, высотка! Тюрьма людей…
Ты, любовь — ты пес за дверьми…
…От любви нам — паче зверей —
Жить — людьми,
умирать — людьми.
О, как веки воспалены…
Флюорографом — этажей…
Все каморки — обнажены…
Все лилеи закинутых шей…
И, как вкопанная, замру
У квартиры с номером: ох,
Это здесь…
И, как на ветру,
Съежусь: о, прости меня, Бог.
Меня девки подговорили
И я белое платье пошила
Ну сначала ели и пили
Торт я резала да шутила
А была компания пестрой
Гобоист мой
да два шофера
Упирался мой локоть острый
В пачку драную «Беломора»
Общежитье
И день рожденья
Дух вахтерских и раздевалок
И соседки курянки варенье
Эх из курских китайских яблок
Гости гости куда ж уплыли
Гобоист мой напился пьяным
И тяжелые руки застыли
На кривом столе деревянном
Я-то знала — другую любит
Только я-то — живая птица
Я в вино обмакнула губы
Я боялась пьяной напиться
Я по нем музыкантишке сохла
Уже два с половиной года
Та другая давно б издохла
Я живуча
Такая порода
И когда он сгреб меня — кучей
Да на койку скриплую кинул
Да ожег щетиной колючей
Да приник губами сухими
Я сказала Да все что хочешь
Он Но я не люблю нисколько
Жизнь загубишь одною ночью
Да ее загубить недолго
Ох и страшно было
Так страшно
Я ж девчонка была натурально
С посконьем своим — в ряд калашный
Иноземный да чужедальний
А уж двадцать четыре года
Бабе стукнуло нестерпимо
Мужику б — посреди народа —
Закричала бы
Ты любимый
А тут страх этот — так ли двину
Я рукою ногою так ли
Пот клеймит бугристую спину
Волоса — наподобье пакли
Ребра гнулись — ломкие спицы —
Да под ребрами под мужскими
О как тяжко же становиться
Бабой — чтоб носить это имя
О как больно
как это больно
Эту боль рассказать — не хватит
Ни столицы первопрестольной
Ни железной прогнутой кровати
Я закрыла простынку телом
Чтобы он не узнал не понял
Что сермяжницу
захотел он
За парчовой царицей в погоне
Он не понял Назвал меня шлюхой
Только скучной очень плохою
Он сказал Твое тело глухо
Ты навек пребудешь глухою
Нет в тебе изюминки этой
Той что всех мужиков щекочет
Нет того медового света
Что испить до дна всякий хочет
И пошел ремень заправляя
Громыхая мелочью медной
А я думала что умираю
И упала на пол паркетный
Мы его мастикой натерли
Запах был гадюшный и сладкий
И схватил он меня за горло
Запах этот —
мертвейшей хваткой
И лежала всю ночь под дверью
Голяком
мертвяком
распилом
Дровяным
убитою зверью
Ржавым заступом
близ могилы
Заступись заступником
кто-то
Никого Пустынна общага
Вот какая это работа
Вот какая это отвага
Вот как бабами становяся
На паркетах пищим по-птичьи
А потом — от холопа да князя
Озираем державу мужичью
А потом
Что потом мы знаем
Мы — царицами
прем по свету
А ночьми
от боли рыдаем
Оттого что нежности —
нету
Я снимаю сережки — последнюю эту преграду,
Что меня от тебя заслоняет — как пламя, как крик…
Мы позор свой забудем. Так было — а значит, так надо.
Я пока не старуха, а значит, и ты не старик.
Повторим мы любовь — так пружину, прижатую туго,
Повторяют часы, нами сданные в металлолом…
Вот и выхода нет из постылого зимнего круга.
Но зима не вовне — изнутри. Мы — в жилье нежилом.
И пускай все обман — не прилепится к мужу супруга! —
И пускай одиночество яростью тел не избыть —
Мы лежим и дрожим, прижимаясь в горячке друг к другу,
Ибо Эроса нет, а осталось лишь горе — любить!
И когда мы спаялись в ночи раскаленным металлом,
И навис надо мной ты холодной планетой лица, —
Поняла: нам, веселым, нагим, горя этого — мало,
Чтобы телом сказать песнь Давида
и ужас конца.
Снова лифт.
Душа болит
Вниз. А сердце — вверх летит.
Камнем вниз — а сердце — вверх!
На площадке — яркий смех.
Я спугнула их. Они
Целовались яростно!
…О, спаси и сохрани —
Губ девичьих ягоды…
Корневища рук мужских.
И подснежник платья.
Ширь разлива — свет реки —
Крепкого объятья.
«Это — Вечная Весна!..»
«Молодежь-то — дурит…»
А старуха — одна —
Близ подъезда курит.
Резко глянет на меня.
Качнусь, как бы спьяну.
После дыма да огня
Я — тобою стану.
Огни увидать на небе. Платье через голову скинуть.
Ощутить перечное, сладкое жжение чрева.
Аметисты тяжелые из нежных розовых мочек вынуть.
Погладить ладонью грудь — справа и слева.
Пусть мужик подойдет. Я над ним нынче — царица.
Пусть встанет на колени. Поцелует меня в подреберье.
Пусть сойдутся в духоте спальни наши румяные лица.
Пусть отворятся все наши заколоченные накрест двери.
Выгнусь к нему расписной, коромысловой дугою!
Он меня на узловатые, сухие ветви рук — подхватит…
Ощутить это первое и последнее счастье — быть нагою
Вместе с желанным — на дубовой широкой кровати!
…Да что ты, душа моя, плачешь!..
Ты ж еще не улетаешь
Туда, откуда будешь
с тоскою глядеть на Землю,
Ты еще мое грешное тело любовью пытаешь,
Я ж — еще прощаю тебя и приемлю!
Опомнись!.. Не плачь!.. Ты еще живешь
в этом горячем теле,
В этом теле моем, красивом, нищем и грешном…
О, уже некрасивом, —
вон, вон зеркало над постелью!..
О, уже суглобом, сморщенном, безгрешном,
безбрежном…
О, в этом мало рожавшем,
под душем — гладком, давно постылом,
Украшаемом сотней ярких пустых побрякушек,
О, в этом теле моем,
еще кому-то — милом,
Живешь еще, — и к тебе тянутся чужие — родные — души!
Ну что же! Придите!
Я вся так полна любовью —
Душа моя еще не ушла из бродячего тела,
она еще здесь, с вами…
Но час настанет —
и встанет она у изголовья,
Как над упавшим ниц в пустыне — в полнеба —
пламя.
Мрак черным орлом — крылами! — обнял меня.
Когти звездные глубко вонзил…
Вот я — нищенка. Стол — без хлеба. Стекло — без огня.
Башмаки — на распыл.
Ту обувку, что сдергивал жадно — пальчики-пяточки мне целовал!.. —
В огонь, на разжиг…
И дырявый кошель грош серебряный — весь промотал,
До копеечки, в крик.
Гляну: щиколки — в жутких опорках… Ах Боже Ты мой,
Я ли?! — в тряпках, что стыд
Изукрасил заплатой… — А помнишь — зимой
По дороге, что хлестко блестит
Войском копий-алмазов! Где уши — залепят гудки
Саблезубых машин! —
Ты за мною бежал, криком — кровью мужичьей тоски —
Истекая меж сдвинутых льдин
Многооких, чудовищных зданий, торосов-громад,
Меж сгоревших дворцогв, —
А царица твоя в шали яростной шла — в ярких розах до пят,
В звездах синих песцов,
В чернобурых, густых, годуновских мехах,
В продубленных — насквозь!..
…Локоть голодом, черною коркой — пропах.
Не загину: авось.
Дл Лопаты Времен я пребуду: горчайший навоз.
Для колес лягу: грязь.
Скомкай платом меня, о Господь, для чужих диких слез! —
От своих — лишь смеясь,
Отряхнусь…
Ночь черна. Пьяней самогона-вина.
Деготь, сажа и мед.
Себя судоргой: хвать! Когтем цапну: одна?!..
Да: камень и лед.
И, сыта маятой, что молча спеку во печи
Нездешних времен,
Я пред зеркалом — в зубы кулак: о, молчи
О том, что и он…
…о том, что и ты —
в пироге нищеты! —
Начинка, кисляк…
…о том, что пронзительней нет под Луной красоты,
Когда мы — вот так —
Во мраке больничной каморы —
речной, перловичный плеск простыней —
Печати сургучной тьмы —
Рты пьются ртами — плечи ярче огней —
В них стылые лица купаем мы —
В горящих щеках и белках!
В ладонях, грудях, животах!
О мир, Брат Меньшой!
Ты в нас — внутри! А снаружи — лишь пламень и прах,
Где тело сгорает — душой!
Где лишь угольки в сивой, мертвой золе
От нас от двоих, —
Крестом обозначь любовь на великой земле
Несчастных, святых,
Двух голых дитят,
двух слепых, скулящих кутят,
Двух царственных чад, —
Эх, милые, глупые, нету дороги назад!
Лишь цепи гремят.
Лишь тянет конвойный вам черствый горбыль.
Лишь похлебки вонючей дадут —
Снеговой, дымовой. Лишь подушкой под щеку — пыль.
Молитва: о, не убьют…
Да, кандальные, злые! Нищие — да!
Каторжане, юроды, сарынь!
…Это мы сверкали под солнцем любви — города.
Это мы под ветром любви шумели — полынь.
Это мы сплелись — не в чуланной карболовой тьме,
Где халаты драные, миски, лампы, шприцы,
А во храме, что ярко горит — сапфиром! — в суме
Черной ночи, где пламенны звезд мохнатых венцы!
И по медному телу, пылая, масло пота течет,
Драгоценное мирро: губами и пей, и ешь, —
И сладчайшие: лоб, колени, грудь и живот —
Есть для смертного мира — зиянье, прореха, брешь
Во бессмертие.
Руку мне поклал на хребет —
На крестец — и жесточе притиснул к себе, прижал.
Ты не плачь, мой кандальник, страдальник.
В Индии храм Кандария есть.
Там тысячи лет
Мы все так же стоим: сверкающий ты кинжал,
Драгоценные ножны я, изукрашенные бирюзой.
…Изукрашенные чернью, смолью, ржою и лжой,
Вдосталь политые дождями,
усыпанные звездой и слезой,
Две живых, дрожащих ноги,
раздвинутых пред твоею душой.
Да, не царица. Господи, прости.
Да, не царица.
И фартук — масленный. И было из горсти
Наесться и напиться.
А мир — жестокий, многотрубный смрад
Над сараюшкой.
И в том бараке всякий смерд был рад
Чекушке и горбушке.
Бывала рада я… Чему? Кому?!
Издохла жалость
Кощенкой драной. К милому — в тюрьму
Я наряжалась:
Пред мыльным зеркалом, в испарине — серьгу,
Ушанку-шапку:
Лиса убитая!.. — и живо, на бегу
Скидая тапки,
Сухие лытки всунуть в раструбы тепла,
Слепого жара… —
О, как в тех катанках я Ангарой текла,
К тебе бежала!
О, как те валенки впечатывали след
В слепящий иней,
В снег золотой и наст, от горя сед,
И в густо-синий
Сугроб перед тюрьмой, где плакал ты,
Вцепясь в решетки, —
Глянь, я внизу!.. А там, за мной — кресты
И купол кроткий!..
А там, за мной, — горит широкий мир
Сребряным блюдом!
И Солнца сладко яблоко! Вот пир —
Я в нем пребуду
Хозяйкой ли, прислугой — все одно!
Убил?! Замучил?!.. —
Я хлеб тебе сую через окно —
Звездой падучей!
Ни палачей, ни жертв, ни судей нет.
Мы — дети Божьи.
К тебе по блюду я качусь — багрян-ранет:
По бездорожью
Острожному, по саблям голых пихт,
По свадебным увалам,
По льдяным кораблям, где штурман зябко спит
У мертвого штурвала,
По мощным сионым круглых, пламенных снегов
Из зимней печи, —
Мокра, как мышь, под шубой на бегу, — к тебе, Любовь,
К тебе, далече!
К тебе!.. — и наплечать — не дожила.
Не добежала.
В дырявых катанках близ царского стола
Мешком упала.
А мир сверкает!.. блюда новые несут
И серебра и злата!.. —
А я лежу ничком, и слезы все текут,
Как у солдата,
Когда в окопе он… — и, валенки мои,
Мои зверятки… —
Заштопать, залатать… — и снова — до Любви:
Марш — без оглядки —
Через дымы, чрез духовитый смог,
Через гранит тюремной кладки —
Чтоб напоследок, у острога, одинок,
Меня узрел ты на снегу… — вперед, зверятки…
Этот мир — чахлый призрак. Бесплотный, костлявый.
Люди, чуть съединившись, опять разрывают уста.
И бегут, будто в астме дыша, и спеша — Боже правый! —
Во бензины автобусов, на поезда…
Вот и ты убегаешь. И пальто твое я проклинаю,
Потому что не руки вдеваешь в него, а такую тоску,
Что страданья больней, чем прощанье, я в мире не знаю,
Хоть прощаться привыкли на бабьем, на рабьем веку!
И бежишь. И бегу.
И от нас только запах остался —
Вкруг меня — запах краски,
Вкруг тебя — запах модных дурацких духов…
Эх ты, призрачный мир!
Под завязки любовью уже напитался.
Мало всех — прогоревших, истлевших — людских потрохов?!..
Но, во смоге вонючем спеша на сиротский, на поздний автобус,
Шаря семечки мелочи,
Ртом в чеканку морозных узоров дыша,
Будем помнить: разлука — то мука во имя Живого, Святого,
Что не вымолвит куце, корежась, живая, немая душа.
Реквием для отца среди ненаписанных картин
Ознакомительная версия.
Похожие книги на "Сотворение мира", Елена Крюкова
Елена Крюкова читать все книги автора по порядку
Елена Крюкова - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.