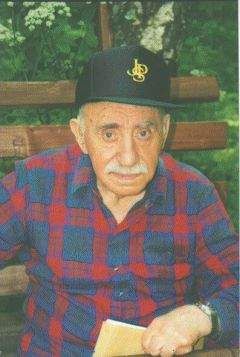1948
Мы оставили хутор Веселый,
Потеряли печать при погрузке,
А туда уж вошли новоселы,
И команда велась не по-русски.
Мы поставили столик под вишней,
Застучал "ремингтон" запыленный…
— Ну, сегодня помог нам всевышний, —
Усмехнувшись, сказал батальонный.
А инструктор Никита Иваныч
Все смотрел, сдвинув светлые брови,
На блестевший, как лезвие, Маныч
И еще не остывший от крови.
Как поймет он, покинутый верой,
Что страшнее: потеря печати,
Или рокот воды красно-серой,
Или эхо немецких проклятий?
Столько нажито горечи за ночь,
Что ж сулит ему холод рассвета,
И воинственно блещущий Маныч,
И цветение раннего лета?
Искривил он язвительно губы,
Светит взгляд разумением ясным…
Нет, черты эти вовсе не грубы,
Страх лицо его сделал прекрасным!
Ах, инструктор Никита Ромашко,
Если б дожил и видел ты это, —
Как мне душно, и жутко, и тяжко
В сладком воздухе раннего лета!
Я не слышу немецких орудий,
Чужеземной не слышу я речи,
Но грозят мне те самые люди,
Что отвергли закон человечий.
Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.
1949
Две недели я прожил у верблюдопаса.
Ел консервы, пока нам хватило запаса,
А потом перешел на болтушку мучную,
Но питаться, увы, приходилось вручную.
Нищета приводила меня в содроганье:
Ни куска полотна, только шкуры бараньи,
Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой,
Только черный чугунный казан закопченный.
Мой хозяин был старец, сухой и беззубый.
Мне внимая, сердечком он складывал губы
И выщипывал редкой бородки седины.
Пальцы были грязны, но изящны и длинны.
Он сказал мне с досадой, но с виду бесстрастно:
— Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.
Я родился двенадцатым сыном зайсанга,
Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга,
Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке
Из чингизовой мы происходим кибитки! —
Падежей избегая, чуждаясь глаголов,
Кое-как я спросил у потомка монголов:
— Отчего ж темнота, нищета и упадок? —
Он сказал: — То одна из нетрудных загадок.
Я отвечу тебе, как велит наш обычай,
Потускневшей в степи стародавнею притчей.
Был однажды великий Чингиз на ловитве,
Взял с собой он не только прославленных в битве,
Были те, кто и в книжной премудрости быстры,
По теперешним званьям большие министры.
Соизволил спросить побеждавший мечом:
— Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?
Поклонился властителю Бен Джугутдин,
Из кавказских евреев был тот господин.
Свежий, стройный, курчавый, в камзоле атласном,
Он промолвил своим языком сладкогласным:
— Наслаждение жизни — в познании жизни,
А познание жизни — в желании жизни.
— Хорошо ты поешь, — отвечал Темучин, —
Только пенье твое не для слуха мужчин.
Ты что скажешь, — спросил побеждавший мечом, —
Наслаждение жизни, по-твоему, в чем?
Тут китаец оправил холеную косу
И ответил, как будто он рад был вопросу:
— Наслаждение жизни — в стремлении к смерти,
А стремление к смерти — презрение к смерти.
— Говоришь ты пустое! — воскликнул Чингиз. —
Ты что скажешь, бухарец? Омар, отзовись!
И ответил увидевший свет в бухаре
Знатный бек, — был он в золоте и в серебре:
— Наслаждение жизни — в покое и неге,
В беспокойной любви и в суровом набеге,
В том, чтоб на руку взять синецветную птицу
И охотиться в снежных горах на лисицу.
Молвил властный: — И этих я слов не приму.
Видно, слово сказать надо мне самому.
Только тот, кто страны переходит рубеж,
Подавляя свободу, отпор и мятеж,
Только тот, кто к победе ведет ненасытных,
Заставляя стенать и вопить беззащитных,
Тот, кто рубит ребенка, и птицу, и древо,
Тот, кто любит беременным вспарывать чрево,
Кто еще не родившихся режет ножом,
Разрушает настойчивый труд грабежом, —
Ненавистный чужбине и страшный отчизне,
Только тот познает наслаждение жизни!
…Солнце медленно гасло над степью ковыльной.
Мой хозяин добавил с усмешкой бессильной:
— Вот какой был порядок властителю сладок,
Потому-то пришло его племя в упадок.
1949
Отселе я вижу потоков рожденье…
Пушкин
У Маруси случилось большое несчастье:
Взяли мужа. В субботу повез он врача
И заехал к любовнице, пьяный отчасти.
В ту же ночь он поранил ее сгоряча:
С кабардинцем застал. Дали срок и угнали.
А Маруся жила с ним два года всего.
И полна она злобы, любви и печали,
Ненавидит его и жалеет его.
Камни тускло сбегают по ленте рекою,
И Маруся, в брезентовой куртке, в штанах,
Их ровняет беспомощной, сильной рукою,
И поток обрывается круто впотьмах.
Из окна у привода канатной дороги
Виден грейдерный путь, что над бездной повис.
В блеске солнца скользя, огибая отроги,
Вагонетки с породой спускаются вниз.
В облаках исчезая часа на четыре,
Возвращаются влажными: дождь на земле.
Здесь, под вечными льдами, в заоблачном мире,
Скалы нежатся в солнечном, ясном тепле.
Словно облако, мысль постепенно рождалась:
Здесь легко человека причислить к богам
Оттого, что под силу ему оказалось
Добывать из эльбрусского камня вольфрам.
Он сильнее становится с каждой попыткой,
Он взобрался недаром наверх по стволу!
…Вот Маруся вошла, освещая карбидкой
Транспортер, уплывающий в пыльную мглу.
Пусть моторы дробилки шумят на Эльбрусе,
Там, где горных орлов прекратился полет, —
Об одном говорят они тихой Марусе:
— Он вернется назад, он придет, он придет!
Пусть три тысячи двести над уровнем моря,
Пусть меня грузовик мимо бездны провез,
Все равно нахожусь я на уровне горя,
На божественном уровне горя и слез.
Потому-то могу я улыбкой утешной
На мгновенье в душе отразиться больной,
Потому-то, и жалкий, и слабый, и грешный,
Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной.
1950
Многоярусный, многодостойный,
Прежде яростный, ныне спокойный,
Поднимается к небу Гуниб.
Не сгорел. Не исчез. Не погиб.
Ничего, кроме камня и славы,
Не осталось от дней Шамиля.
Ничего. Лишь одни тополя
Сохранили свой отсвет кровавый.
Я слыхал от людей: русский князь
В знак победи велел посадить их.
Высоко их семья поднялась,
Но молчат о суровых событьях.
На вершине гранитных громад
Ныне праздно зияют бойницы
Там виднеется зданье больницы,
Рядом школа, при ней интернат.
А на площади сонные парни
Ждут чего-то у входа в райком.
Пахнет мясом, вином, чесноком,
Кукурузным теплом из пекарни.
Что же смотрят на все тополя
С выраженьем угрюмой обиды?
Мнится мне: то стрелки Шамиля,
То его боевые мюриды.
1950
Плавно сходят к морю ступени,
По бокам их — изваянные вазы,
Посредине — белый виноградарь,
В руках его зеленые кисти.
Чуть пониже — глиняные дети
На концах бесформенных пальцев
Держат глобус (или мяч футбольный),
Еще ниже, вдоль берега, — рельсы,
И когда товарные вагоны,
Грубо грохоча, пробегают,
Между ними, в странных очертаньях,
Так волшебно волнуется море,
И в куске, на мгновенье окаймленном
Платформой, колесами, дымом,
Бесстрашными кажутся чайки.
Поднимаешься в город — пахнет
Жасминами, утренним чадом,
И каспийский ветер не в силах
Этот запах теплый развеять.
Ты идешь на базарную площадь,
Что лежит у подножья Кавказа.
Восковые кисточки липы,
Коготки шиповника в палисадах,
На прилавках — яблоки и книги,
Вывески на нескольких наречьях,
Голые руки сонных хозяек,
Достающие из-за окон
Вяленой баранины полоски,
От хмеля веселые горцы
В твердых трапециях черных бурок
И папах из коричневой мерлушки,
Вдалеке, за базарной пылью,
Правильные линии кряжей,
Параллельные буркам и папахам, —
Все пронизано солнцем и ветром
И незримой связано связью,
Исполненной чудного смысла,
Но обманчивого представленья,
Что законы низменной жизни
Мудро управляют вселенной,
Что земле неизвестно горе,
Что молодые не умирают,
Что не слышишь ты приближенья
Неизбежного грозного рока.
1950