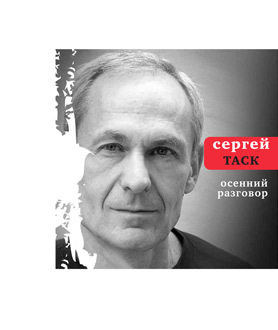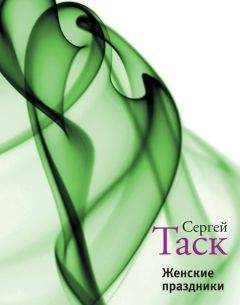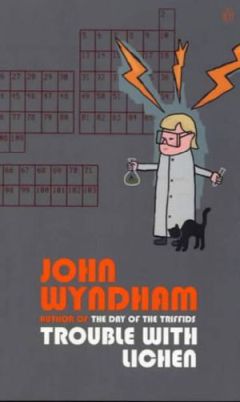Пора судить за шутки.
Пурген крепит желудок.
Вот и открыли у нас лабаз
на паях с африканской страной.
И попер народ из народных масс,
и накрыло волну волной.
Из-за голенища достал перо
инженер человеческих душ.
Горит синим пламенем ГОЭЛРО,
освещая сибирскую глушь.
Там кот ученый, грядущий хам,
по науке лущит горох.
За оставленный богом мой русский храм
помолись, мой еврейский бог.
Августин сомневается, что если у жирного гуся,
съедающего столько же, сколько десяток тощих,
отнять еду именем Господа нашего Иисуса,
он станет как все, то есть худей и проще,
и что тощие не сделаются жирными как один,
сомневается Августин.
Что можно совсем без участия со стороны мужчины
зачать в одной отдельно взятой утробе,
вызывает большие сомнения у Августина,
как и то, что можно спустить в пустыню Гоби
сибирские реки, с тем чтобы стала пустыней
Сибирь. В Августине
так сильны пережитки схоластического мышленья,
что он отдает себе отчет в каждом поступке.
Мог бы запросто ботать по римской фене,
нет, учит зачем-то греческий. К женской юбке
у него отношенье фотографа: снимать, но с хорошей
выдержкой. Перенесший
инфаркт на ногах, сомневается он, что бесплатная медицина
сильно в этом повинна. А недавно на диспуте в Пизе
он усомнился, что устроенный в церкви святой Катерины
абортарий на двести коек не способен принизить
веру в девственность Богоматери. И, совсем уже странно,
сомневается он постоянно,
что, на троих разливая, можно напиться быстрее,
чем накачиваясь в одиночку. Привычка во всем сомневаться
заставляет его скептически относиться к идее
всеобщей свободы как возможности переселиться в палаццо
из хижин. Кстати, в том, что его, Августина, не выдумал
какой-то кретин,
сомневается Августин.
Люблю в чужом пиру похмелье!
Нет, не в чужом – здесь все свои.
Вчера ты был, к примеру, Шелли,
а завтра будешь Навои.
Как медиум, над всякой тенью
ты властен – это ль не искус?
Искусство перевоплощенья,
прекраснейшее из искусств.
Изведать дрожью каждой жилки,
когда дыханье на нуле,
таинственную прелесть Рильке
и сладкозвучность дю Белле;
сгорать, как на огне, в Бодлере,
кичиться славою Гюго,
грести прикованным к галере,
о Саламанке грезя… Го —
споди, какая мука, право!
На что тебе чужой талант
и чья-то боль, и чья-то слава,
и трансвестизм а-ля Жорж Санд?
…Концы тихонько отдавая,
беззвучно деснами жую.
Чужие жизни проживая,
так и забыл прожить свою.
Зима кончается. От спячки
проснулась муха между рам.
Опять начнет свои подначки
капель-злодейка по утрам.
Послать бы все, ей-богу, к бесу!
А сам четвертый час сижу:
елизаветинскую пьесу
к нам на Оку перевожу.
Лишь очумевши не на шутку
от совращений и резни,
иду гулять по первопутку.
По сторонам чернеют пни,
с чьего-то дальнего подворья
кричит как резаный петух,
в невнятном бабьем разговоре
словцо-другое ловит слух.
Эх, описать бы это сходу,
без позы, не плетя словес,
сфотографировать природу
почти бесстрастно, всю как есть:
и снег слежалый, черно-бурый,
и то шоссе, и этот склад…
А это что там за фигуры
у полыньи рядком сидят?
Пять мужиков прилипли глазом
к студеной мартовской воде,
как будто все тулупы разом
присели по большой нужде.
Привет вам, рыцари мормышки!
Ну что, клюет еще осетр?
С такой же начали страстишки
апостолы Андрей и Петр.
…Садится солнце за пригорком,
повеял холодом борей.
Скорей, скорей опять по норкам
к теплу надежных словарей!
Но, взглядом проводив зарницу,
сидишь, валяешь дурака,
и лень дописывать страницу,
и обрывается строка.