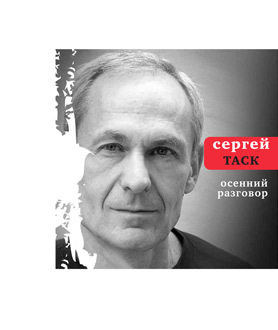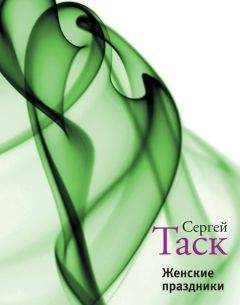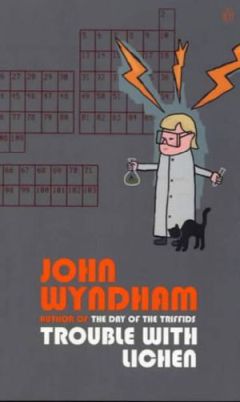же сельский – прямиком.
Влияние безоговорочно,
ведь не начать ни посевной,
ни косовицы, ни уборочной,
не выпив прежде по одной.
Чем как не пьянками разносными
всё держится: и урожай,
и наша жизнь, и зимы с вёснами,
и коммунизм, и вечный рай?
– Не люблю я тебя…
– И я без тебя не могу.
– …совсем…
– Правда?.. я тоже.
– Все фальшь, обман…
– Все хорошо, милый.
– Так дальше продолжаться не может…
– Да-да, надо чаще видеться!
– Меня раздражает твоя походка, то, как ты одеваешься,
красишься…
– Ты устал, тебе надо поменьше работать…
– …твои интонации…
– …не обращать внимания на разные мелочи…
– Замолчи!
– Вот видишь, запачкал пиджак… Ну ничего, отстираю.
– Ты ведь тоже устала… посмотри на себя…
– Какие у тебя чудесные глаза!
– Может, не будем эту неделю встречаться?
– Ну конечно, милый… ну конечно… Завтра… там же…
На Семеново подворье,
как условились, к шести
я пришел – а дальше к морю
нам уж было по пути.
Дед Семен – мужик что надо,
Есть в нем сила и сейчас,
только малость глуховатый
и кривой на правый глаз.
Хлеб, приманку, якорь, снасти
в лодку бросив, в кожуха
влезли. Дед сказал на счастье:
«Ну, пора. Ловись уха».
И на весла я налегши,
только слышал – хлюп да хлюп,
а Семен: «Да ты полегше
и на пуп тяни, на пуп…»
лодка быстро шла, и деда
пару раз волной обдав,
через полчаса я где-то
осознал, что дед был прав.
Тут как раз шабаш – стоянка,
посидеть бы по-людски,
но уже на дне приманка,
и наживлены крючки.
Тишь да гладь,
рябит от блеска,
припекает – красота!
И натянутая леска
тонко трется о борта.
…Час прошел. Другой проходит.
Я от солнца уж ослеп.
А «уха» крючки обходит
и обгладывает хлеб.
Дед, не тратя лишних корок
и, пожалуй, лишних слов,
подсекает красноперок
и в садок кладет улов.
Сыпанул еще приманку,
выдал крепкий анекдот,
помочился наспех в банку,
глядь – уже опять клюет!
Ах ты, думаю, зараза,
рыб моих с крючков снимать…
Чтоб на оба, одноглазый,
окривел ты, твою мать!
…Пять часов болтались в лодке,
а когда пошел шестой,
«Пересохло, – слышу, – в глотке».
Якорь выбрали. Домой!
Вот и берег. Вмиг управясь
с дедовым хозяйством, я
так был суше рад, что зависть
не тревожила меня.
А когда прощались, глухо
буркнул дед, крутя махру:
«Жду в обед. Моя старуха
варит славную уху».
Я в мир литературы не входил,
скорее вышел из литературы:
я чем-то на кого-то походил,
знал как свои чужие партитуры.
В Онегине себя я узнавал,
горел с Иваном в пламени бесовском,
захлестывал меня девятый вал,
еще не сотворенный Айвазовским.
Я отдал шестьдесят шестой сонет,
княжну топил с моей подсказки Стенька.
Я дважды изобрел велосипед
и открывал Америку частенько.
Мне подошли Толстого сапоги б,
своим считаю лабиринт Дедалов.
Не то я сам в Качалове погиб,
не то во мне, увы, погиб Качалов.
О, как до дня желанного дожить
(минуты мне покажутся веками),
чтоб мог я Дездемону задушить
натруженными этими руками!
Меня, как Блока, мучила тоска
и, как Печорина, снедала скука,
с Олешей я писал «Три толстяка»,
а нынче даже съеден. Вместо Кука.
Однажды лебедь раком щуку…
в тенистой заводи пруда.
Металась щука, но – ни звука!
Бурлила, пенилась вода.
Июль на выдохе. Парило.
Дымился на полях навоз.
Мужик косил траву вполсилы.
На бережку стоял уныло
покинутый возницей воз.
Ночь коротка. И снова брезжит
парной, как молоко, рассвет.
Чу! Слышится зубовный скрежет,
плеск крыльев и любовный бред.
Вконец заезженная птицей,
чуть дышит щука, ткнувшись в плес.
Кричит петух. Встает станица.
Стада к пруду идут напиться.
Все так же неподвижен воз.
А там задуло, закружило —
октябрь откуда ни возьмись.
Парком клубится воздух стылый,
и дым перстом уходит ввысь.
…Во время родов сдохла щука.
Подался лебедь во Вьетнам.
В станице после жатвы скука.
А воз… Куда он делся? ну-ка,
взгляни… А воз и ныне там.