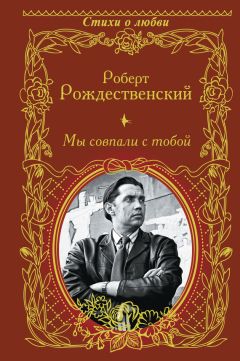До чего же я хорош – аж не верится!
Даже некого поставить рядом со мной!
Чувства подданных я в точности выражу, —
мне понятен их восторженный порыв:
я, во-первых, потрясающе выгляжу!
Еще лучше буду выглядеть, во-вторых!
И лично мне до крайности
приятна эта роль.
А больше всего мне нравится,
что именно я —
король!
3. Песня придворного поэта
Говорить со мной каждому лестно,
Людям нравится мудрая речь.
Без талантов нельзя королевству!
Я – талант. Меня надо беречь!
Меня надо лелеять и холить
Раза три или больше на дню.
И тогда я, собрав свою волю,
Обязательно стих сочиню!
В очень творческом ажиотаже
Нахожусь я в течение дня.
Так прекрасно пишу я, что даже
Сам король понимает меня.
Льется в душу легко и воздушно
Моя образно-яркая речь.
И меня обязательно нужно
Каждый день награждать и беречь!
Песенка солдата Из кинофильма «Неуловимые мстители»
Как-то шел сатана,
сатана скучал.
Он к солдатке одной постучал.
Говорит:
«Я тебе слова не скажу…»
Говорит:
«Просто так посижу…»
А солдатка жила много лет одна…
Отдохнул у нее сатана.
Через год на печи ложками звенят
может – пять,
может – семь
сатанят.
Полсела сатанят
скоро набралось.
У меня между тем
есть вопрос:
виновата ли в чем
мужняя жена? —
В ней с рожденья сидит
сатана!..
К дорогуше своей
я б пришел давно,
да стоит на пути
черт Махно.
И пока я хожу-езжу
на войне,
ты, Маруся,
не верь
сатане!
Песенка о любознательном щенке
У подъезда моего родного дома
(дом хороший,
там – кино наискосок)
мне однажды повстречался
мой знакомый,
добродушный
любознательный щенок.
– Объясни ты мне, —
сказал он, чуть не плача, —
понимаешь,
я давно ищу ответ:
почему бывают
холода собачьи,
а кошачьих холодов
на свете нет?..
Это кошки и коты
из теплых комнат
перед тем, как поутру на лапы встать,
говорят, что за окном —
собачий холод,
чтобы сразу всех собак
оклеветать!..
Я обнял щенка
и так ему ответил:
– Не грусти, приятель,
это – не беда.
Ведь зато
собачий вальс играют дети,
а кошачьего
не будет
никогда!
Загремели свадьбы,
застонали проводы.
Перепутались и праздники и плачи…
Строки нотные стоят
колючей проволокой.
Я бы музыку записывал
иначе.
Я бы музыку писал,
на клевер падая.
Мне бы нравилась
поющая работа.
Я бы музыку писал
на строчках пахоты.
На ладошке
годовалого ребенка.
Засыпал и просыпался.
Ел не досыта.
Растворился б
в неожиданных мотивах.
Я бы музыку писал
на струйках дождика.
Или лучше —
на летящих паутинках.
Я бы музыку ловил
в озерах ласковых.
Я бы пил ее,
как пьют хмельное зелье.
Я бы музыку писал
на крыльях ласточек.
Я бы музыку писал
на шкуре зебры.
Я бы музыку творил,
кричал и мучился!
Я б искал ее
возвышенно и жадно…
Но уже сочинена
такая музыка.
Если ты ее не слышишь —
очень жалко.
Гитара ахала,
подрагивала,
тенькала,
звала негромко,
переспрашивала,
просила.
И эрудиты головой кивали:
«Техника!..»
Неэрудиты выражались проще:
«Сила!..»
А я надоедал:
– Играй, играй, наигрывай!
Играй что хочешь.
Что угодно.
Что попало…
Из тучи вылупился дождь
такой наивный,
как будто в мире до него
дождей
не падало…
Играй, играй!
Деревья тонут в странном лепете…
Играй,
наигрывай!..
Оставь глаза открытыми.
На дальней речке
стартовали гуси-лебеди —
и вот, смотри, летят,
летят и машут крыльями…
Играй, играй!..
Сейчас в большом
нелегком городе
есть женщина
высокая, надменная.
Она, наверное,
перебирает горести,
как ты перебираешь струны.
Медленно…
Она все просит
написать ей что-то нежное.
А если я в ответ смеюсь —
не обижается.
Сейчас выходит за порог.
А рядом —
нет меня.
Я очень без нее устал.
Играй, пожалуйста…
Гитара ахала.
Брала аккорды трудные,
она грозила непонятною истомою…
И все,
кто рядом с ней сидели,
были струнами.
А я был —
как это ни странно —
самой тоненькой.
За тобой
через года
иду
не колеблясь.
Если ты —
провода,
Я —
троллейбус.
Ухвачусь за провода
руками долгими,
буду жить
всегда-всегда
твоими токами.
Слышу я:
«Откажись!
Пойми
разумом:
неужели это жизнь —
быть привязанным?!
Неужели в этом есть
своя логика?!
Ой, гляди —
надоест!
Будет плохо».
Ладно!
Пусть свое
гнут —
врут расцвеченно.
С ними я
на пять минут,
с тобой —
вечно!
Ты —
мой ветер и цепи,
сила и слабость.
Мне в тебе,
будто в церкви,
страшно и сладко.
Ты —
неоткрытые моря,
мысли тайные.
Ты —
дорога моя,
давняя,
дальняя.
Вдруг —
ведешь меня
в леса!
Вдруг —
в Сахары!
Вот бросаешь,
тряся,
на ухабы!
Как ребенок, смешишь.
Злишь, как пытка…
Интересно мне
жить.
Любопытно!
«Тот самый луч, который…»
Тот самый луч,
который
твоих коснется рук,
покинув мыс Китовый,
опишет полукруг.
И в море не утонет.
Пушист и невесом,
он был в моих ладонях
застенчивым птенцом…
Он замелькает вскоре
над рябью свежих луж.
Сквозь облако тугое
пройдет тончайший луч.
И облако,
как сердце,
пронзенное стрелой,
забыто и рассеянно повиснет над страной…
На запахи грибные
прольется луч из тьмы.
И за лучом
печные
потянутся дымы.
Он высветит,
с разбега
запутавшись в звонке,
скелет велосипеда
на пыльном чердаке.
Смахнет росу
с тычинки
ленивого цветка.
В больших глазах волчицы
застынет, как тоска.
Упав на лес полого,
пожухлый лист пронзит.
Перечеркнет болото.
По насту заскользит.
На половицы в доме
он хлынет, как обвал…
Я пил его с ладони.
Пил,
словно целовал…
Покинул
мыс Китовый,
как песня для двоих, —
тот самый луч,
который
коснется губ твоих.
Не привез я таежных цветов —
извини.
Ты не верь, если скажут, что плохи они.
Если кто-то соврет, что об этом читал…
Просто эти цветы
луговым не чета!
В буреломах
на кручах пылают жарки,
как закат, как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем городского стола.
Не для них отшлифованный блеск хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода…
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь.
И кажется – руки в крови!
Но не бойся, цветы к пиджаку приколи.
Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той, таежной, неласковой, гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы,
начинают стремительно вянуть цветы!
Сразу гаснут они.
Тотчас гибнут они…
Не привез я таежных цветов.
Извини.