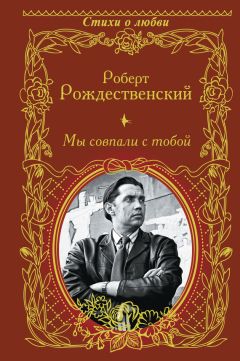мчит,
опираясь на собственный дым.
Люстра торчит,
как хрустальная елка.
Важный начальник
на темя встает.
Будто он близкий родственник
йога,
ежели сам —
почему-то —
не йог.
Врач вытрезвителя
пьет беспробудно.
Плачет.
Боится упасть
на Луну.
Лектор занудный
вцепился в трибуну.
Жулик —
в решетку.
Ревнивец —
в жену.
Самоубийством
кончает посуда.
Синяя мгла
за чертой снеговой.
Жаль,
не могу я увидеть
отсюда:
как вы там ходите
вниз головой.
Звезды высыпали вдруг
необузданной толпой.
Между летом и зимой
запылала осень трепетно.
Между стуком двух сердец,
между мною и тобой
есть —
помимо расстояний —
просто разница во времени.
Я обыкновенно жил.
Я с любовью не играл.
Я писал тебе стихи,
ничего взамен не требуя.
И сейчас пошлю домой
восемнадцать телеграмм.
Ты получишь их не сразу.
Это —
разница во времени.
Я на улицу бегу.
Я вздыхаю тяжело.
Но, и самого себя
переполнив завереньями,
как мне закричать
«люблю»!
Вдруг твое «люблю»
прошло?
Потому, что существует
эта разница во времени.
Солнце встало на пути.
Ветры встали на пути.
Напугать меня хотят
высотою горы-вредины.
Не смотри на телефон.
И немного подожди.
Я приду,
перешагнув
через разницу во времени.
Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего…
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны…
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она иль нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным…»
Но…
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.
Я уехал
от весны…
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горючих слез
самолет меня
унес.
Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу…
Я ведь сильный,
я —
смогу…»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была…
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто…
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится…»
«У вас шум в сердце…» —
врач сказал.
Увы,
пора кончать базар…
Шум в сердце?..
Надо же!
Хотя,
наверно, это – шум дождя.
А может —
госпитальный стон.
Бинты —
светлее, чем престол.
Мы – шефы.
Нам по десять лет.
Нас ждет бескарточный обед!
Мы – шефы.
Мы даем концерт.
У главврача смешной акцент,
когда он нас благодарит.
Рыдает нянечка.
Навзрыд.
Постель
пустая, как бельмо.
На ней —
невскрытое письмо.
Шум в сердце?..
Странный шум тайги
пылающей.
И крик:
«Беги!»
Шофер
в дымящемся рванье.
Таймень,
сварившийся в ручье.
И полз по веткам,
и дрожал
хрустящий, оголтелый жар.
Медведица —
седая вся —
визжала,
лапою тряся.
Шум в сердце?..
Шум
метели той.
Пурги,
как флотский борщ, густой.
Бортинженер пропал тогда…
Давила спины корка льда.
Мы —
как в негнущейся броне —
брели по снежной целине.
Брели.
Костры до неба жгли.
Стреляли.
Так и не нашли.
Шум в сердце?..
Отзвуки
твоих
шагов.
Я снова слышу их.
Ты шла по медленному дню.
В надежду.
В новую родню.
Шла в сплетни.
Шла в больные сны.
Шла в губы.
В звание жены.
В пеленки.
В зарево плиты.
В любовь.
Так приходила
ты!..
Шум в сердце?..
Жаркий шум толпы.
Хмельной.
Встающей на дыбы.
За мертвых и живых пьяны, —
солдаты ехали с войны.
Солдаты
победили смерть!..
А где же им еще
шуметь?
Земля —
в ознобе
телетайпных лент.
Не ведаю,
куда глядит начальство…
Мне кажется:
я взял
чужой билет.
Совсем другому
он
предназначался…
Со мною
колобродить до утра
готовы,
про чужой билет не зная,
актеры,
космонавты,
доктора
с высокими, как горы,
именами…
Растерзана гудками тишина,
сиреневый дымок летит по следу…
И только мама верит
да жена,
что еду я
по своему билету.
А я
святым неверьем взят в кольцо.
С большой афиши,
белой, будто полюс,
испуганно глядит
мое
лицо,
топорщится
подделанная подпись.
И мне то тяжело,
то трын-трава,
чужие голоса
в меня проникли.
В знакомых песнях
не мои
слова!
Надписываю я
чужие
книги!..
Чужой билет.
Несвойственная роль.
Я тороплюсь.
Я по земле шатаюсь…
И жду:
вот-вот появится
контроль.
Тот поезд
отойдет.
А я останусь.
Не думай о секундах свысока.
Наступит время – сам поймешь, наверное:
свистят они,
как пули у виска, —
мгновения,
мгновения,
мгновения…
Мгновения спрессованы в года.
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда:
где – первое мгновенье,
где – последнее.
У каждого мгновенья – свой резон.
Свои колокола.
Своя отметина.
Мгновенья раздают
кому – позор,
кому – бесславье,
а кому – бессмертие!
Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная…
И ты порой почти полжизни ждешь,
когда оно придет —
твое мгновение.
Придет оно —
большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего…
А, в общем,
надо просто помнить долг.
От первого мгновенья
до последнего.
Покроется небо
пылинками звезд,
и выгнутся ветки упруго.
Тебя я увижу за тысячи верст.
Мы – эхо,
мы – эхо.
Мы —
долгое эхо друг друга.
И мне до тебя,
где бы ты ни была,
дотронуться сердцем нетрудно.
Опять нас любовь за собой позвала.
Мы – нежность,
мы – нежность.
Мы —
вечная нежность друг друга.
И даже в краю наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы – память,
мы – память.
Мы —
звездная память друг друга.
По проселочной дороге шел я молча,
и была она пуста и длинна.
Только грянули гармошки
что есть мочи,
и руками развела тишина.
А это свадьба, свадьба, свадьба
пела и плясала.
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе
было места мало!
И неба было мало,
и земли!
Под разливы деревенского оркестра
увивался ветерок за фатой.
Был жених серьезным очень,
а невеста
ослепительно была молодой!
Вот промчались тройки звонко и крылато,
и дыхание весны шло от них.
И шагал я —
совершенно неженатый.
И жалел о том, что я не жених.
А где-то свадьба, свадьба, свадьба
пела и плясала.
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе
было места мало!
И неба было мало,
и земли!
Кафе называлось, как странная птица, —
«Фламенго».
Оно не хвалилось огнями,
оно не шумело.
Курило кафе
и холодную воду
глотало…
Была в нем гитара.
Ах, какая была в нем гитара!
Взъерошенный парень
сидел на малюсенькой сцене.
Он был непричесан, как лес,
неуютен, как цепи.
Но в гуле гитары
серебряно
слышались трубы, —
с таким торжеством
он швырял свои пальцы
на струны!
Глаза закрывал
и покачивался полузабыто…
В гитаре была то ночная дорога,
то битва,
то злая веселость,
а то
колыбельная песня.
Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье,
то шелест волны,
то орлиный
рассерженный клекот,
зубов холодок
и дрожание плеч
оголенных.
Задумчивый свет
и начало
тяжелого ритма…
Гитара
смеялась!
Гитара со мной
говорила.
Четыре оркестра она бы смогла переспорить.
Кафе называлось,
как чья-то старинная повесть, —
«Фламенго».
Дымило кафе
и в пространстве витало…
А парень
окончил играть
и погладил гитару.
Уже незнакомый,
уже от всего
отрешенный, —
от столика к столику
с мелкой тарелкой
пошел он.
Он шел,
как идут по стеклу, —
осторожно и смутно.
И звякали деньги.
И он улыбался чему-то.
И, всех обойдя,
к закопченной стене притулился…