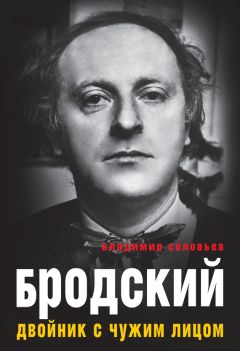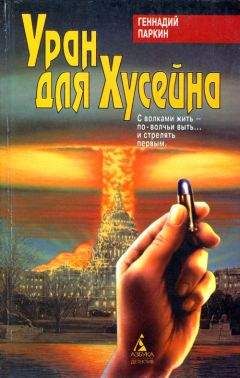– Я не из вашего детского сада…
Что самое опасное в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Вроде бы все мы яростные сторонники демократии и свободы, но внутри нашего арзамаса царят тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов.
Мы давно уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуем – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили – да мало ли! Зависть, недоброжелательство, злоба – за фасадом тесной дружбы и взаимной любви.
Цеховым и мафиозным нашим связям помогает отечественный литературный фон – страна придает каждому из нас и всем вместе силы и самоуверенности, как Антею мать-земля. Где-нибудь на Мадагаскаре мы и вообще чувствовали бы себя гениями. Ленинград – что-то вроде Мадагаскара: Москва исключена из поля нашего литературного зрения, а уж тем более Иркутск и Вологда, где живут Вампилов и Белов. Наш кругозор сужен нашим кружком – естественно, тайная зависть и еле скрываемая враждебность связывают нас куда более тесно, чем мнимая дружба и фиктивная любовь.
Было бы даже странно и неправдоподобно, если бы вождизм, учительство, мелкобесие не расцвели в нашем литературном саду пышным цветом. Корни этого прискорбного явления следует, однако, искать не в эпохе, которую мы по невежеству либо легкомыслию окрестили эпохой культа личности – хотя какой там культ, когда сама личность отсутствовала, – но в русских литературных традициях. За невозможностью свободной политической, общественной и религиозной деятельности литература в XIX веке была использована в качестве лазейки для нее и контрабандой протаскивалась в статьи Белинского, в прозу Гоголя, в стихи Некрасова. Ладно с Белинским – он был чистой воды политиком, который к литературе относился меркантильно и пользовался ею исключительно в качестве камуфляжа и маскировки. А вот трагедия Гоголя, скажем, заключалась именно в том, что религиозный проповедник потеснил, а потом и вытеснил в нем художника. Толстой и Достоевский довели до апогея учительский пафос русской литературы, особенно Толстой. Поэтому деятельность Чехова, которая протекала в узости между этими Сциллой и Харибдой нашей литературы, – настоящий раритет: он возвратил отечественную словесность в лоно культуры и эстетики, где она и находилась в пушкинские времена, а уже в гоголевские оказалась за его пределами. Ведь в чем основной конфликт между Чернью и Поэтом у Пушкина?
Чернь.
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Поэт.
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Пушкин не был чужд политике: политика – часть нашей реальности, и было бы опрометчиво закрывать ей вход в литературу. Я о другом – о проповедничестве, об учительстве, о вождизме, который смущает даже в таких великих книгах, как «Выбранные места из переписки с друзьями» или «Бодался теленок с дубом». Гумилев говорил Ахматовой: «Все наши писатели кончают тем, что начинают учительствовать. Как только ты заметишь в моем голосе учительские нотки – пожалуйста, сразу же меня отрави».
Естественно, учительский пафос больших наших писателей неизбежно должен был привести к мелкобесию малых литераторов. В Ленинграде – за неимением, с отъездом Бродского, больших писателей – мелкие бесы и ловцы душ стали плодиться с кошачьей скоростью. Разговорные таланты стали цениться выше литературных: читать – труд, слушать – отрада. Актерская поза, манера держаться, налаженная дикция, ораторский пафос и отработанная до тонкостей система приемов – вот вам портрет мелкого беса. Истинные критерии давным-давно утрачены, официальным учителям никто уже не верит, вакантное место занимает наиболее ловкий самозванец – проблема самозванства злободневна в нашей истории на разных уровнях, трон есть лишь ее частное проявление.
Одно счастье – в Ленинграде таких самозванцев-бесов десятка два, если не больше, а потому единоличная диктатура все-таки невозможна. В первоначальном наброске «Романа с эпиграфами» я описал одного из таких дядек нашей литературы и обозначил его Пришибеевым. Сейчас я его изгоняю со страниц романа, дабы не засорять прозу и не обижать человека[1].
Аудитория мелкого беса по преимуществу женская, как, кстати, и все наше русское общество последние два столетия. «Если бы мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее…» – писал русский предшественник Стриндберга, автор «Горя от ума», самого антифеминистского произведения в нашей литературе. Расчет мелкого беса на женщину оправдан ее всемогуществом – если не на политической, то на общественной ниве несомненно. Общественное мнение – мужское по авторству и женское по распространению. Мелкобесие, таким образом, носит частично сексуальный характер; особенно очевидно это при учете института старых дев и дочернего ему предприятия недоуестествленных, хотя и замужних женщин. Представьте себе старую деву, для которой ее редакторское место в журнале или в издательстве – единственная форма ее жизни и ее женской власти, кстати, куда более обширной, чем семейная власть женщины.
По-настоящему мелкобесие расцвело у нас с отъездом Бродского: что-то было в нем, что мешало им резвиться и себя тешить и услаждать – что? Они еще припишут его к своему полку, если ему удастся доказать себя на международной сцене.
Я понимаю, почему так важно Сальери избавиться самому и избавить свою братию от Моцарта: тот нарушает иерархию, смещает ценностную шкалу, путает карты, путается под ногами. Почему так подробен Пушкин, думая о Сальери, так пристален и печален? Он пытается понять своих друзей, скрыто его ненавидящих, – Вяземского, Катенина, Баратынского…
А если бы «Моцарта и Сальери» написал не Пушкин, а Катенин? Что это было бы? Оправдание убийства или апология ремесла? Или апология посредственности?
Любой коллектив, цех, мафия, противопоставляя себя окрестному миру и возвышаясь над ним, пользуются в том числе и невозможностью сравнения, отсутствием гласности и конкуренции. Запретный плод сладок – подпольный или полуподпольный характер оппозиционных высказываний придает им особую привлекательность и дополнительный вес в тоталитарном обществе. К тому же и власть предержащие, окончательно усомнившись в официальной идеологии, своими неопасными преследованиями неофициально признают за этой фрондой право на существование и некий статус, мало того – на всякий случай заигрывают с ней, предполагая в ней возможную преемницу. Я говорю не о диссидентстве, но о вполне официальной карьере, чуть-чуть приправленной диссидентством: при столкновении с властями оно резко преуменьшается – и резко преувеличивается при встрече с чернью. Негласный договор между волком и зайцем: один подтверждает существование другого. Угрозы нет ни для той, ни для другой стороны, но есть видимость угрозы, которая создает видимость деятельности, а та в свою очередь – видимость успеха.
Столь выгодный для цеховой посредственности общий фон – и в самом деле весьма убогий – становится с каждым отъездом все выгоднее и выгоднее. Помимо отъездов за границу, уезжают из Ленинграда в Москву: Битов, Найман, Рейн, Соловьев с Клепиковой. Я вычеркнул из «Романа с эпиграфами» моего приятеля Пришибеева, дабы роман не занесло в мелководье мелкобесия, но несколько слов о его популяризаторской деятельности все же скажу, ибо лица необщим выраженьем он не обладает и легко сойдет за любого другого модного литератора-историка.