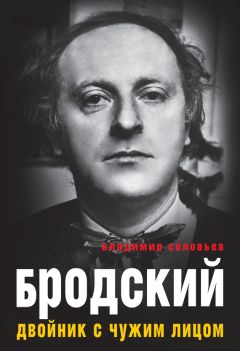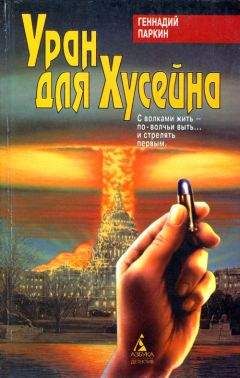Бродский как-то слишком быстро, решительно и бесповоротно от Лидии Яковлевны отвалил – был неуемен, неуместен, насмешлив, романтичен и бестактен. Да и потом он был из «волшебного хора» Ахматовой, а после Ахматовой и по сравнению с ее московской подругой Надеждой Яковлевной Мандельштам, воспоминания которой вместе со стихами Бродского литературные вершины нашего безвременья, наша «Яковлевна» выглядела заштатно, вторично и даже пародийно, а ее претензии, пусть подкрепленные в самом деле иногда интересными дневниковыми страничками, которые она читала нам вслух, все-таки необоснованными. Тем не менее Саша прилепился к Лидии Яковлевне сразу и навсегда, и похоже, что и она его как-то из остальных выделила и литературно усыновила, резко противопоставив другому сыну, в ее представлении – блудному, хотя он сам, скорее всего, даже не подозревал об этом родстве, – Бродскому. В Комарово мы с ней в конце концов поссорились из-за него – смешно сказать, не из-за него самого и не из-за его стихов, а из-за его места в русской литературе, в первый ряд которой Лидия Яковлевна его не допускала. Однако именно она тогда мне пророчески сказала, что любить обоих невозможно – Сашу и Осю:
– Вот увидите, с Сашей вы расстанетесь, потому что вам придется выбирать, и вы выберете Бродского.
– А у вас проблемы выбора не было?
У Лидии Яковлевны, несомненно, есть чувство юмора.
– Я выбрала, что осталось, – сказала она.
Я был помоложе самых молодых ее учеников, пристал к этой компании позже других; как говорит деревенский дед Федяпердунок – говно приблудное. Выслушивать монотонные учительские монологи Лидии Яковлевны у меня терпения не хватило – вслед за Бродским я от нее на своей утлой лодчонке отчалил, а потом постепенно, как колобок, и от всей честной компании, от всего корабля ленинградской литературы: адье!
А с Бродским они поступили так – настойчиво и разнообразно стали его отрицать. Они согласились бы ему покровительствовать, ежели бы он, подчинившись, пусть формально, их диктату и установленной ими иерархии, встал бы под сиятельную их защиту, в которой нуждался. В нем, однако, сработал безошибочный его инстинкт творческого выживания, самосохранения. Он понимал, что рвать надо с ближними, которые на поверку самые дальние, дальше некуда, – и рвать немедля, пока тебя не затянуло, пока они под видом любви и опеки не окрутили тебя с ног до головы патокой, елеем, дружелюбием, цеховыми связями, которые еще неизвестно – больше дают или больше отымают? Бродский отвалил, нанеся обиду, и был предан анафеме, которая заключалась в замалчивании. Принцип простой: ты не с нами – значит, тебя нет. А это как раз то, что Бродскому было позарез необходимо: доказывать свое существование не только советской власти, но и мнимым ее оппонентам. Бродский взялся за дело горячо и в несколько лет одолел барьер несовместимости, присоединившись к высокому ряду: Державин – Баратынский – Пушкин – Тютчев – Пастернак – Мандельштам. Если так дальше пойдет, он и в мировую литературу проникнет – первым из русских поэтов.
Бродский действовал по инстинкту, а Саша потом попытается нагнать его – естественно, в отечественных пределах – по стратегии.
Здесь их главное отличие при внешнем сходстве – у обоих неистребимый инстинкт самосохранения. Но у одного житейский – у Саши, а у другого – литературный. Саша ничем не пожертвует из своей жизни ради своей судьбы, а Бродский судьбой ведом, и единственно ею: сыщется ли на свете лучший проводник? Вроде бы он все делал во вред себе, а выходило на пользу. А Саше – все на пользу, хотя по сути во вред; но даже если он это понимает, то не принимает в расчет. Ося и в ссылке побывал, и в тюрьме, и в психушке, и каждый его шаг и чих на учете в КГБ, и стихов не печатали, и со всеми ссорился – а выиграл! А у Саши – психология отличника, в поэзии он Молчалин, старателен, рационален, аккуратен, все до мелочей продумано – все его любят, все печатают, у него всего одно непечатное стихотворение, он добился признания и славы, с ним считаются – и все равно ощущение неудачи, что-то не получилось, всю жизнь старался, корпел, выстраивал какую-то там цепь электропередач, а вот не сработало, не замкнулось, контрольная лампочка не горит, и в чем дело – непонятно; оттого мрачен, складочка у рта какая-то все выдает – не трагедию, а скверность. Но не заново же все начинать – поздно, хотя обидно…
У Саши жизненный инстинкт самосохранения, у Бродского – инстинкт судьбы.
У Бродского инстинкт литературной судьбы, а у Саши – литературной карьеры.
Гениальный импровизатор – и старательный версификатор. Только можно ли упрекать человека, что он не поэт Божьей милостью, а профессиональный стихотворец, добившийся всего сам, трудом и стратегией?
Бродский зарабатывал славу у вечности, игнорируя отечественные условия существования, – Саша предпочитал синицу в руке журавлю в небе. Думал ли Саша о вечности? Вначале она в его расчеты не входила, и был он о своих возможностях скромного мнения, но постепенно, уяснив технику успеха, занялся ею всерьез – ежели можно обхитрить современников, то почему не потомков? Почему потомки должны быть умнее современников? Да и не до нас им будет – у них своих будет дел по горло. А потому наши оценки окончательные, потомки примут их на веру, как мы приняли на веру оценки наших предков.
С отъездом Бродского честолюбивые Сашины мечты обострились и удлинились: он лишился – так казалось ему, не ступавшему ногой дальше Праги – соперника, конкурента, врага. Так гипнотизировало Сашу пространство:
Жить в городе другом – как бы не жить,
При жизни смерть дана, зовется – расстояньем… —
вот он и счел своего противника умерщвленным расстоянием. Какое счастье, что это все-таки не так.
Плюс сплетни: Бродскому плохо, ему не пишется, поэт без родины – не поэт.
Когда начали отпускать евреев, Саша страшно перепугался:
– Нам перестанут доверять!
– А так будто доверяют?
– Попомните мои слова: нам будет хуже!
– Саша, о ком все-таки речь? Пусть будет хуже, но не так все-таки, как тем, кто вынужден уехать, для кого эта страна – тюрьма. Разве это не счастье, что они получили свободу? Я говорю не только о евреях, но о всех, кто загнан в угол. Им-то, уж наверное, будет лучше, потому что так плохо, как здесь, просто не может быть.
– Не знаю, не знаю – про них не знаю. Хотя очень сомневаюсь, что им будет лучше там, чем здесь, потому что едут-то в основном неудачники – здесь они все свои беды сваливали на государство, Россия у них была козлом отпущения, а там они с кого спрашивать будут? А нам – мы же остаемся! – нам будет еще хуже, чем им!
– Будет хуже – так уедем вслед за ними!
Нам и в самом деле стало хуже – потому что мы стали хуже. Подавали заявления самые отважные – а для этого и в самом деле нужна была отвага, – и их среди нас не становилось. Уезжали не неудачники – разные, в том числе неудачники, но вместе с ними и лучшие среди нас; зато те, кто оставался, становились хуже, вынужденные приспосабливаться к резко меняющимся условиям. А политическая, общественная и культурная ситуация в стране и в самом деле менялась стремительно и катастрофически – мы физически не успеваем зафиксировать одно изменение, как на смену ему уже грядет следующее. Повылазили наружу те, кто прежде прятался в щелях и головы по своему убожеству не поднимал, – свято место пусто не бывает. Я говорю не только об официальных синекурах, меньше всего о них, они редко доставались евреям, а уж коли доставались, то за столь дорогую цену, что ни о каких отъездах и помыслить было невозможно, – скорее о нашей общественной жизни, которая мельчала, оскудевала, пока и вовсе не сошла на нет. Отъезды порождали ощущение все увеличивающейся пустоты внутри нас – в государстве, в литературе, в каждом по отдельности, – и бороться с этой пустотой становилось все труднее. Циркулировал тогда анекдот об отъезжающем еврее, который, стоя уже на подножке вагона, просит передать последнему, кто будет уезжать, чтобы не забыл погасить свет.
Вся беда в том, что свет погас сам и задолго до того, как отсюда уехал последний еврей. Да и не в евреях дело. Не в одних евреях.
Мы сидим в кромешной тьме и не видим ни зги.
Лично для меня два пограничных столба отделяют одно время от другого: отъезд Бродского, 1972 год, и арест Володи Марамзина, 1974 год, – между ними нейтральная полоса. Мы с Сашей оказались по разные ее стороны.
Саша обрадовался отъезду Бродского – убери соблазн, и греха не будет или, точнее, коли уж пользоваться излюбленными мною поговорками, с глаз долой, из сердца вон! И в самом деле поначалу Саша упивался этим странным выигрышем у отсутствующего противника – как ему было догадаться, что этот отъезд для него как для поэта губителен? Почему так испугала Сашу эмиграция? Только ли потому, что к оставшимся евреям будут хуже относиться? Впервые за много лет евреи (а с ними и неевреи) получили право выбора – взамен права на приспособление. Момент выбора – самый гениальный – нет, не в жизни, в человеческой судьбе. Право выбора делает человека свободным.