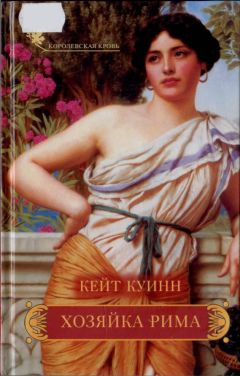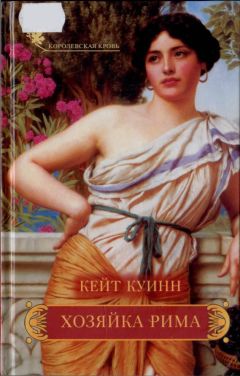Ознакомительная версия.
Как показать осень
Еще не осень – так, едва-едва.
Ни опыта еще, ни мастерства.
Она еще разучивает гаммы.
Не вставлены еще вторые рамы,
и тополя бульвара за окном
еще монументальны, как скульптура.
Еще упруга их мускулатура,
но день-другой —
и все пойдет на спад,
проявится осенняя натура,
и, предваряя близкий листопад,
листва зашелестит, как партитура,
и дождь забарабанит невпопад
по клавишам,
и вся клавиатура
пойдет плясать под музыку дождя.
Но стихнет,
и немного погодя,
наклонностей опасных не скрывая,
бегом-бегом
по линии трамвая
помчится лист опавший,
отрывая
тройное сальто,
словно акробат.
И надпись «Осторожно, листопад!»,
неясную тревогу вызывая,
раскачиваться будет,
как набат,
внезапно загудевший на пожаре.
И тут мы впрямь увидим на бульваре
столбы огня.
Там будут листья жечь.
А листья будут падать,
будут падать,
и ровный звук,
таящийся в листве,
напомнит о прямом своем родстве
с известною шопеновской сонатой.
И тем не мене,
листья будут жечь.
Но дождик уже реже будет течь,
и листья будут медленней кружиться,
пока бульвар и вовсе обнажится,
и мы за ним увидим в глубине
фонарь
у театрального подъезда
на противоположной стороне,
и белый лист афиши на стене,
и профиль музыканта на афише.
И мы особо выделим слова,
где речь идет о нынешнем концерте
фортепианной музыки,
и в центре
стоит – «Шопен, соната № 2».
И словно бы сквозь сон,
едва-едва
коснутся нас начальные аккорды
шопеновского траурного марша
и станут отдаляться,
повторяясь
вдали,
как позывные декабря.
И матовая лампа фонаря
затеплится свечением несмелым
и высветит афишу на стене.
Но тут уже повалит белым-белым,
повалит густо-густо
белым-белым,
но это уже – в полной тишине.
Я видел сон – как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.
Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.
В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.
Как бы чертеж земли,
погубленной какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.
Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше – черная вода.
А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.
Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.
Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.
И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал…
Но вот, едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.
И поддаваясь искушению,
они построились в полки,
опять послушные движению
его играющей руки.
Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.
Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.
Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов.
Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.
Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть
распространился запах падали,
из первой части просочась.
И сладко пахло шерстью жженою,
когда, тревогой охватив,
сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.
Мотив предчувствия, предвестия того,
что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.
Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.
И вскоре там, где она кончилась,
лежала черная земля.
И я не знал ее названия —
что за земля, что за страна.
То, может быть, была Германия,
а может быть, и не она.
Как бы чертеж земли,
погубленной какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.
И я, в отчаянье поверженный,
с тоской и ужасом следил за тем,
как музыкант помешанный
опять к роялю подходил.
Эта тряска, эта качка —
ничего в ней нет такого.
Это школьная задачка —
поезд шел из пункта А.
Это маленькая повесть
все о том же – ехал поезд,
ехал поезд, ехал поезд
к пункту Б из пункта А.
Это все куда как просто,
время, скорость, расстоянье,
время множится на скорость,
восемь пишем, два в уме.
Дождь и ветер, дым и сажа,
три страницы, два пейзажа,
трубы, церковь, элеватор,
две березки на холме.
Это все куда как просто,
повесть, школьная задачка,
мы свое уже решили,
мы одни уже в купе.
Мы дочитываем повесть,
повесть, школьная задачка,
будка, стрелка, водокачка,
подъезжаем к пункту Б.
Что ж, плати за чай и сахар,
за два ломтика лимона —
вкус лимона, вкус железа,
колеи двойная нить.
Остается напоследок
три-четыре телефона —
три-четыре телефона,
куда можно позвонить.
Воспоминанье о красном снеге
Я лежал на этом снегу
и не знал,
что я замерзаю,
и лыжи идущих мимо
поскрипывали
почти что у моего лица.
Близко горела деревня,
небо было от этого красным,
и снег подо мною
был красным,
как поле маков,
и было тепло на этом снегу,
как в детстве
под одеялом,
и я уже засыпал,
засыпал,
возвращаясь в детство
под стук пролетки
по булыжнику мостовой,
на веранду,
застекленную красным,
где красные помидоры в тарелке,
и золотые шары у крылечка —
звук пролетки,
цоканье лошадиных подков
по квадратикам
красных булыжин.
«Темный свод языческого храма…»
Темный свод языческого храма.
Склад и неусыпная охрана.
Цепь, ее несобранные звенья.
Зрительная память, память зренья…
Тайный склад и строгая охрана.
Полотно широкого экрана.
Магниевых молний озаренья.
Зрительная память, память зренья…
Но – и полотно киноэкрана
и – незаживающая рана,
и – неутихающая мука
повторенья пройденного круга.
О, необъяснимое стремленье
на мгновенье выхватить из мрака
берег, одинокое строенье,
женский профиль, поле, край оврага,
санки, елку, нитку канители,
абажур за шторкою метели,
стеклышко цветное на веранде,
яблоко зеленое на ветке…
Память зренья, своеволье, прихоть,
словно в пропасть без оглядки прыгать,
без конца проваливаться, падать
в память зренья, в зрительную память,
и копать под черными пластами,
в памяти просеивать, как в сите,
слыша, как под черными крестами —
откопайте! – просят – воскресите!..
Я копаю, день и ночь копаю,
осторожно почву разгребаю,
на лопату опершись, курю,
– Бедный Йорик! – тихо говорю.
«Сколько нужных слов я не сказал…»
Сколько нужных слов я не сказал,
сколько их, ненужных, обронил.
Сколько я стихов не написал.
Сколько их до срока схоронил.
Посреди некошеной травы,
в чаще лебеды и лопухов,
шапку сняв с повинной головы,
прохожу по кладбищу стихов.
Ни крестов, ни траурных знамен
в этом месте темном и глухом.
Звездочки стоят вместо имен
по три, по три, по три над стихом.
Голова повинная, молчу.
Вглядываюсь вдаль из-под руки.
Ставлю запоздалую свечу
возле недописанной строки.
Тихий свет над черною травой.
Полночь неподвижна и тиха.
Кланяюсь повинной головой
праху Неизвестного стиха.
Время зимних метелей
Фрагменты сценария
Посредине фильма снег идет.
Человек по улице идет…
Снег валит на город густо-густо,
снег гребут лопатой с тротуара,
грузят на машины —
и в машинах
за город торжественно везут.
Снег лежит на шапках у прохожих,
на плечах прохожих и на спинах,
и они его неутомимо
на себе по городу несут.
Где-то в этом городе огромном
человек звонит из автомата.
Женщина звонит из автомата
где-то на другом конце земли,
где-то на другом конце Вселенной,
на какой-то улице соседней —
долгие протяжные гудки
в телефонных мечутся кабинах,
в призрачно мерцающих глубинах
долгие протяжные гудки,
как сигналы спутников случайных,
тщетно окликающих друг друга.
Все быстрей,
быстрей вращенье круга,
диски, телефонные круги,
все быстрее —
диски,
диски,
диски,
бешено вертящиеся диски,
диски,
телефонные круги,
диски – сумасшедшие колеса
паровоза
и электровоза,
электрички
и автомобиля,
диски,
телефонные круги,
диски-бубны,
диски-барабаны,
цирки,
карусели,
балаганы,
диски,
телефонные круги
радиолы
и магнитофона,
в городском саду аттракциона —
чертово вращенье колеса.
Человек звонит из автомата,
женщина звонит из автомата,
вот его глаза,
ее глаза —
два бездонных,
два бессонных круга,
где сейчас неистовствует вьюга,
и сквозь них,
сквозь вьюгу,
сквозь пургу —
два огромных телефонных диска,
два огромных круглых обелиска
на равнине белой, на снегу.
Ознакомительная версия.