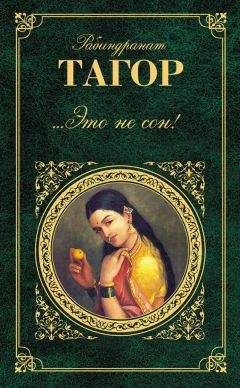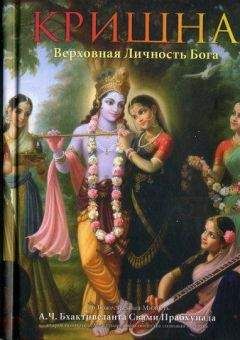Праздник дедушки
Праздник твой – в лазурном небе,
В поле, где цветы цветут,
На ступенях, где в прохладе
Плещется глубокий пруд.
Праздник твой – средь тамариндов[50],
Там, где скрыты закрома,
И в густой ветвистой чаще,
Где и днем таится тьма.
Праздник твой – в полях, где зреет
Молодой, зеленый рис,
На реке, где в светлой пляске
Волны радостно сплелись.
– Я же, дедушка твой старый,
Темные очки надел
И запутан в паутине
Мелких неотложных дел.
В празднике моем пленяет
Твой нарядный юный вид,
В голосе твоем мой праздник
Флейтой нежною звучит.
Праздник мой по-молодому
Светит блеском глаз твоих,
В празднике твоем – мой праздник,
Полон радостей живых.
Осень праздник твой на лодке
Привезла издалека,
Шиули[51] цветы красивей,
Чем роскошные шелка.
Ночью, свежесть навевая,
Ветер прилетел к нам вдруг,
И привет от Гималаев
Он принес тебе, как друг.
Праздник твой встречает пышно
Красочный осенний цвет,
И на месяце ашшине[52]
Чадор[53] праздничный надет.
В комнате моей так шумно,
Если ты туда войдешь,
Все дела, счета и книги
Вдруг охватывает дрожь.
Обхвати рукой за шею,
Крепче обними меня —
И для дедушки настанет
Праздник радостного дня.
Кто тебе приносит праздник
И за что? – Не знаю я.
Ты приносишь деду праздник,
В радости твоей – моя.
Из книги «Малыш Бхоланатх» («Шишу Бхоланатх»)
1922
О Бхоланатх, о мой малыш!
Когда кружишь
В бездумной пляске и летишь,
Воздев ручонки, ты, как смерч, проникший в дом:
Все в нем вверх дном!
Сокровища свои, беспечное дитя,
Уничтожаешь ты, шутя,
Творения свои в прах превращаешь сам,
От всех игрушек – только пыль по сторонам…
Не в этом ли закон твоей игры?
Ни созиданию не знаешь ты цены,
Ни разрушению – ведь для тебя они равны.
Из ничего, дитя, ты можешь все создать,
Чтоб все в ничто преобразить опять…
Одежду в пыль втоптал, сорвав с себя, – она
Порыву твоему тесна…
В самозабвенной пляске нищ и наг,
Сокровищ вечных ты сосуд, бессмертных благ —
Ни пыль к тебе не пристает, ни нищета.
Уныния и грусти суета
Тобой развеяна, как тени поутру…
Мой Бхоланатх, прими меня в игру!
О, подари скорей
Забвение всего душе моей!
В игру ломания игрушек посвяти,
Чтоб сокрушить я мог преграды на пути!
Пусть с пляскою твоей безумной в лад
Мои напевы зазвучат!
На одной ноге стоит она,
Кроной выше всех вознесена.
Кажется: еще одно усилье —
И пальмира тучи просверлит,
Унесется высоко, в зенит.
Только как же обрести ей крылья?
Широки округлые листы…
Вот оно – свершение мечты.
В самом деле, чем не крылья это?
Вмиг расправит их над головой
И покинет дом родимый свой.
Улететь отныне нет запрета.
Попросилась на простор душа,
Листья мчат, качаясь и шурша,
Или это чудится пальмире?
Вот она взлетает в вышину,
Миновала звезды и луну,
Небо все бездоннее и шире.
Но стихает ветер, и тотчас
Листья поникают, чуть шепчась,
Снова у себя пальмира, дома.
Все же мать-земля всего родней,
Снова, как и прежде, дорог ей
Этот уголок земли знакомый.
Я никогда не вспоминаю мать,
И лишь порой, когда я выбегаю
На улицу – с мальчишками играть,
Какая-то мелодия внезапно
Овладевает мной, не знаю где родясь,
И кажется мне, словно это мама
Вошла ко мне, с моей игрой слилась.
Она, качая колыбель мою,
Быть может, эту песню напевала,
Но все ушло, и мамы больше нет,
И песни маминой не стало.
Я никогда не вспоминаю мать.
Но в месяце ашшин, средь зарослей жасмина
Как только начинает рассветать,
И влажен ветер, пахнущий цветами,
И тихо плещется волна, —
В моей душе встают воспоминанья,
И мне является она.
А верно, мама часто приносила
Цветы, чтоб вознести моления богам;
Не оттого ль благоуханье мамы
Я слышу всякий раз, входя во храм?
Я никогда не вспоминаю мать.
Но, глядя из окошка спальной
На мир, который взором не обнять,
На синеву небес, я чувствую, что снова
В мои глаза глядит она
Внимательным и нежным взглядом,
Как в золотые времена,
Когда, меня сажая на колени,
Она смотрела мне в глаза.
И взор ее тогда во мне запечатлелся,
И от меня закрыл он небеса.
Один раджа на свете жил…
В тот день раджою я наказан был
За то, что, не спросившись, в лес
Ушел, и там на дерево залез,
И с высоты, совсем один,
Смотрел, как пляшет голубой павлин.
Но подо мною треснул вдруг
Сучок, и мы упали – я и сук.
Потом я взаперти сидел,
Своих любимых пирожков не ел,
В саду раджи плодов не рвал,
Увы, на празднике не побывал…
Кто наказал меня, скажи?
Кто скрыт под именем того раджи?
А у раджи жена была —
Добра, красива, честь ей и хвала…
Во всем я слушался ее…
Узнав про наказание мое,
Она взглянула на меня,
Потом, печально голову склоня,
Ушла поспешно в свой покой
И дверь закрыла крепко за собой.
Весь день не ела, не пила,
Сама на праздник тоже не пошла…
Но кара кончилась моя —
И в чьих объятьях оказался я?
Кто целовал меня в слезах,
Качал, как маленького, на руках?
Кто это был? Скажи! Скажи!
Ну, как зовут жену того раджи?
Из книги «Вечерние мелодии» («Пуроби»)
1925
Подошла к восточным вратам небес первая туча
поры дождей,
Забарабанила в барабаны грома. Поэт, отзовешься
ли ей
В новых строфах своих, в песнях радостных,
славящих дождь?
Это Кришны качели, качаясь, касаются зелени рощ.
Речь твоя год за годом, с качанием мерным в ладу,
В пляске молний лилась, отчего ж она в этом году
В скорбной вдовьей одежде, распростерта во прахе,
лежит?
Осень в месяц ашшин, разодетая празднично, как
надлежит,
Взяв корзину цветов, вновь во дворик твой тихо
войдет;
Светлым знаком избрания, лунным лучом, она
из году в год
Отмечала чело твое. Значит, что же, придется
теперь
Ей опять и опять отворять в опустевшую комнату
дверь
И с охапки цветов отряхать, рассыпать лепестки
у дверей,
Чтоб лежали замолкнувшей песней.
Знаю, всею душою своей
Ты любил этот мир красоты, ты им жил и дышал,
День за днем ожерельями песен вечно новых его
украшал.
Лжи, греху и насилию посылал ты проклятья свои,
Ты сражался с жестокостью подлой во имя любви,
И тогда стрелам огненным Арджуны[56] становились
подобны слова.
Ты за правду борец беспощадный, вся сущность
твоя такова.
Твердый, любящий, нежный, на ви́ну Сарасвати ты
Натянул золотую струну не сравнимой ни с чем
чистоты,
И отныне на праздниках твой напев то печален
и глух,
То звучанием сладким обольщает и радует слух.
По селеньям Бенгалии пляска ливней веселых идет,
Землю переполняя вечной радостью из году в год.
Ты раскрасил причудливым альпона[57] стены домов,
В переливы кукушки, в павлиний пронзительный
зов
Ты вложил свою музыку. В рощах цветущих,
в листве
Ты оставил волну своей радости. Беспокойные,
юные, те,
Кто во тьме непроглядной спали тягостным сном
взаперти,
Выйдут с первым лучом, не страшась испытаний
пути.
Ты в походе за новую жизнь с ними будешь, поэт,
Ты для них, этих путников, бодрствовал
множество лет,
Ты сплетал им победный венок, гневных песен
накапливал груз,
Ты с грядущим столетием заключил неразрывный
союз.
Узел прочно завязан, сознаньем твоим утвержден,
Друг мой, правды служитель.
Тот, кто нынче еще не рожден,
Кто не видел тебя, кто не знает лица твоего,
Тот, кому ты себя подарил в зыбком облике песни, —
останешься ты для него
Только песнею, вечно звучащей… Ну, а кто тебя
видел, кто знал,
Где отыщет он то, что на веки веков потерял?
Где отыщет он успокоенье? В дни встречи друзей
Вновь и вновь наполнял ты мне чашу душою своей,
Лаской, песней, любовью: радость брал и дарил.
Друг мой, друг!
Не придешь ты сегодня в круг друзей своих. Вижу,
как вдруг
Тень печального воспоминанья повеет крылом,
Шутки, смех, разговоры погасит за дружеским
нашим столом.
Темный сумрак печали неоглядную даль заволок.
Одиноко сижу я над бездной, где пенится смерти
поток.
Вопрошаю тебя – спала с глаз твоих пелена?
Что прекраснее в мире, чем сладостная тишина
Райских кущ? На пороге зари, где сегодня корзина
твоя,
Что наполнил ты новым звучаньем во славу
идущего дня?
Не смолкает в ушах эта песня. Напев ее слит
С нежным светом зари. Песня радость сквозь
слезы сулит.
В этой песне чудесной боль конца неизбежного есть,
И предчувствие света, и рожденья счастливая весть,
В ней печаль о забвенье в разлуке, надежды
и скорби борьба,
В звуках мощных и грозных – о встрече грядущей
мольба.
Кормчий того парома, что перевез тебя,
Встречался мне не однажды. С ним часто виделся я
В мокрых тенях ашарха – месяца длинных
дождей,[58]
Он будил меня песней; болью откликался в душе
моей
Зов дороги неведомой, – солнца заходящего край
золотой
Подавал мне свой знак. Мне снова нынче
встретился кормчий твой
Пасмурным днем, дождливым. Он принес твой
последний привет,
Послание ароматное – кадамбы опавший цвет.
Ответ свой собственноручно доставлю тебе потом,
Когда в урочное время взойду на тот же паром.
Не знаю – светлой ли ночью, когда шиули
отцветет,
На рассвете ли, когда ветер, дуя с юга, деревья гнет,
Когда будят его порывы дремлющих птиц в саду.
Может, в день цветенья жасмина я из этой жизни
уйду.
Может, будут во мраке трещать сверчки или шуметь
прилив
Неспокойною полночью. Может, туман сгустится,
землю укрыв
На закате холодном.
В эту жизнь я пришел много раньше
тебя.
Я по жизни шагал дорогой своей, то радуясь,
то скорбя.
Ты почтительно шел позади, молодой, налегке,
Свободный душою, с послушною флейтой в руке.
Шел с венком на челе – подарком богини самой.
Ты сегодня ушел, не дождавшись меня, мир
покинул земной.
Все покровы прорвал ты, ушел в вышину,
в глубину,
Ты земным был поэтом – стал вечным в минуту
одну.
Поглощен ты душою вселенной, где торжественная
звучит
Бесконечности ви́на. Поток ее музыку мчит.
Все планеты, все звезды наводняет своей красотой.
Там ты, старший мой брат. Если нам суждено
за чертой
Повстречаться с тобой, познакомимся заново. Как?
В обличье каком? Все равно, хоть какой-нибудь
знак
Сохранит хоть какой-нибудь дальний души
уголок —
Эту память о прахе земных бесконечных дорог,
С их страданьями, счастьем, надеждами, страхом,
стыдом.
В дни земные твои на лице твоем, добром, простом,
Отсвет правды сиял. С милой скромной улыбкой
твоей,
Со спокойной свободою речи негромкой твоей —
Верю, в этом же облике встречу тебя у дверей
Незнакомого мира иного. Как радовался бы я!
Да не будет напрасною эта надежда моя!