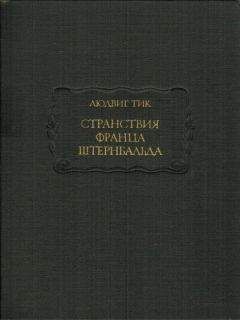— Вы непременно должны хоть ненадолго задержаться в Лейдене, — сказал Лука, — мне хочется говорить с вами бесконечно, узнать ваше суждение о многих вещах, ибо я не знаю другого человека на всем свете, с кем бы мне так же приятно было бы говорить, как с вами.
— Конечно, я пробуду здесь по меньшей мере несколько дней. — ответил Дюрер. — С того часа, как Франц меня покинул, я думал об этом путешествии и копил на него деньги, сколько мог.
За этими разговорами приспело время обеда; вошла молодая, красивая женщина, это была жена нидерландца, она приветливо напомнила мужу, что пора садиться за стол, и пригласила его вместе с гостями в трапезную. Они охотно последовали за ней и сели за стол. Супруга Альберта Дюрера очень приветливо поздоровалась с Францем Штернбальдом, никогда еще не видел он ее столь прелестной — путешествие рассеяло ее, она повеселела, да и лицом расцвела и пополнела.
За столом маленький Лука казался более на своем месте, чем где-либо; он умел так радушно угощать напитками и яствами, что отказаться было прямо-таки невозможно; при этом он был необычайно учтив с женой Дюрера и ухитрялся сделать ей великое множество неназойливых комплиментов. Дюрер, напротив, сидел серьезный и растерянный, прекрасная молодая жена Луки скорее смущала его, чем занимала, он привык к немецкой серьезности и считал, что если шутка не приходит ему в голову сама собой, искать ее бесполезно. Франц был в торжественно приподнятом настроении, он просто глаз не мог отвести от своего любимого учителя, тем более что завтра рано поутру — об этом не забывал он ни на минуту — он должен был ехать дальше и, следственно, расстаться с Дюрером: он нашел попутчиков, которые за недорогую цену соглашались взять его с собой в Антверпен.
Лука весело воскликнул:
— Мастер Альбрехт (простите мне, что я позволяю себе фамильярно называть вас по имени), прежде, чем вы уедете, позвольте мне написать ваш портрет, я очень хочу иметь ваш портрет, написанный со всей достоверностью и тщательностью, и буду весьма стараться.
— А я напишу вас, — молвил Альбрехт, — мне ваше лицо, право же, не менее мило, — и увезу портрет с собою в Нюрнберг.
— Знаете, как мы это устроим? — ответил Лука. — Вы напишете свой автопортрет, а я свой, и потом поменяемся, тогда у каждого будет на память еще и образец работы другого.
— Пожалуй, — сказал Дюрер, — мне в общем-то удаются автопортреты, я писал и гравировал их уже не раз, и их всегда считали похожими. Но что меня очень удивляет, — продолжал он, — так это что вы так молоды, мастер Лука, а между тем уже подарили миру так много произведений искусства и по праву имеете столь громкое имя: вам ведь не дашь и тридцати лет.
Лука ответил:
— Мне и нет тридцати, мне едва сравнялось двадцать девять. Вы правы, я писал прилежно и гравюр сделал почти столько же, сколько вы; но, милый мой Альбрехт, я ведь и начал очень рано; должно быть, вам не известно, что я уже на девятом году был гравером.
— На девятом?! — воскликнул Франц в изумлении. — Я думал всегда, что вы приступили к первой своей работе на шестнадцатом году, да и это всегда казалось мне удивительно.
— Нет, — продолжал Лука, — я еще и говорить как следует не научился, а уже перерисовывал картины и разные предметы природы. Говорить, выражать свои желания углем казалось мне более естественным, нежели словами. Я рисовал с невероятным усердием и ничем другим в мире не интересовался, ко всем наукам, а также к языкам и тому подобному был совершенно равнодушен и крайне неохотно тратил время на обучение этим вещам. Когда я не рисовал, то внимательно приглядывался ко всем предметам, что попадались мне на глаза, чтобы затем изобразить их. Величайшей радостью для меня было, если мои родители или другие люди узнавали, кого изобразил я на моих портретах. Я не любил играть, мои сверстники были мне в тягость, я презирал их, избегал их общества, потому что занятия их казались мне чересчур детскими; они в отместку насмехались надо мной и дразнили маленьким старичком. Я стал спрашивать, как делаются гравюры на меди, и люди не слишком сведущие познакомили меня с этим искусством в той мере, в какой владели им сами. Так на девятом году я создал первую свою картину, которая стала известна окружающим, и многие признали ее удачной; вскоре после того мои родители по настоятельной моей просьбе отдали меня в учение к мастеру Энгелбрехту; я продолжал прилежно трудиться, и на шестнадцатом году приобрел уже кое-какую известность, так что на работы мои стали находиться покупатели.
— Вы подлинно были чудесным ребенком, мастер Лука, — сказал Альберт Дюрер, — раз так, нечего удивляться, что мир узрел так много ваших работ.
— Если я и вправду чего-то достиг, — живо возразил Лука, — то обязан я этим только вам. Вы служили мне образцом для подражания, вы вливали в меня новый огонь, когда порой мужество готово было оставить меня, — ведь я полагаю, что даже у самого прилежного художника бывают часы, когда он не может ничего создать и должен дать себе роздых, углубившись в себя, ибо работа ему не дается; в такие минуты я снова слышал о вас или видел одну из ваших гравюр, и прилежание вновь возвращалось ко мне во всей своей юной красе. Должен признаться, что вам я обязан и большинством своих замыслов, уж не знаю, как это получается, но, хотя отдельные фигуры или предметы всегда отчетливо стоят у меня перед глазами, я никак не могу объединить их в той исторической связи, которая и создает картину, пока мне не попадется в руки какая-нибудь другая картина, и тут мне приходит на ум, что ведь и я мог бы это изобразить, да кое-где еще и улучшить; из картины, которую я вижу перед собой, в душе моей вырастает новая, и она не дает мне покоя до тех пор, пока я не завершу ее. Более всего я люблю подражать вашим картинам, Альбрехт, ибо всем им присущ какой-то свой особый смысл, какого не нахожу я у прочих. Вы чаще других наталкивали меня на новые мысли, и вам, должно быть, известно, что я пытался повторить большинство ваших картин. Иногда я бывал настолько тщеславен, — простите мне мою дерзновенную гордыню, вы ведь человек прямой и добрый, — чтобы подправлять ваши образы, делать их более приятными для глаз.
— Мне это хорошо известно, — как нельзя более добродушно и приветливо произнес Альбрехт, — и уверяю вас, я многому от вас научился. Подобно тому, как телу вашему присуща большая ловкость и проворство движений, нежели моему, так и кистью и резцом вы владеете более ловко. Вы умеете придать фигурам на ваших картинах известную грацию в позах и поворотах, которой нет у меня, так что мои работы по сравнению с вашими выглядят жесткими и грубыми; но позвольте мне тоже сказать вам, что на мой взгляд в некоторых случаях вы напрасно отступили от подлинной простоты, присущей предмету. Так, я вспоминаю несколько гравюр на меди, где на переднем плане стоят спиной к зрителю люди в широких плащах, хотя натуральнее было бы, разумеется, поставить их к зрителю лицом. Здесь по моему наивному разумению вы просто стремились к новизне и хотели создать резкий контраст между большими фигурами в плащах и прочими фигурами на листе; однако получалось это несколько нарочито.
— Вы правы, Альберт, — сказал Лука, — я вижу, вы хитрец и сумели мне отплатить. Я часто ловил себя на том, что, желая улучшить какую-нибудь из ваших гравюр, на самом деле портил ее. Ибо очень легко потерять из виду первую мысль, которая чаще всего и есть самая верная и лучшая; и вот начинаешь изукрашивать свою картину, а тогда рано или поздно получается, что на тебя смотрит чужими глазами незнакомая вещь, которой не по себе на бумаге или на полотне. Тут вам больше повезло, вы всегда можете придумать что-нибудь новое, и потому такая промашка вам почти не грозит. Но, Альбрехт, откуда у вас в голове столько мыслей, столько новых созданий?
— Вы заблуждаетесь на мой счет, — возразил Альбрехт, — ежели полагаете, будто я так горазд на выдумку. Лишь немногие мои картины родились из одного лишь моего намерения, обыкновенно же их вызывает к жизни какое-либо случайное обстоятельство. Например, я слышу похвалы чьей-либо картине, слышу рассказ из Священного писания, и вдруг чувствую, как во мне пробуждается жажда изобразить это, именно это, а не что иное. Настоящее же созидание — вещь редкая, создавать нечто дотоле неслыханное — дар особый и удивительный. То, что кажется нам новым созданием, обычно составлено из того, что уже было ранее; но способ компоновать делает его в какой-то мере новым; да ведь и создавший первым тоже лишь компоновал свой сюжет, свою картину из того, что уже было — в опыте, в мыслях и воспоминаниях, из того, что он читал или слышал.
— Очень справедливо, — сказал Лука, — в буквальном смысле слова создать нечто из ничего — это было бы наистраннейшее, что вообще может приключиться с человеком. Что-то вроде нового способа сходить с ума, ибо и безумец не выдумывает ведь свой бред. Природа — вот кто созидает, всем художествам передает она драгоценности своей великой сокровищницы; мы лишь подражаем природе, наше вдохновение, наши выдумки, наше стремление к новизне и совершенству сродни внимательному взгляду младенца, который не упускает ни одного движения матери… Но знаете ли, Альбрехт, что можно заключить из этого наблюдения? Что, стало быть, сами по себе вещи, которые хочет изобразить поэт или художник, или творец в какой-либо другой области искусства, не могут быть противоестественны, ибо самая безумная мысль, если она пришла в голову мне, человеку, уже потому естественна и ее можно выразить и сообщить другим. От области подлинно неестественного мы отделены высокой стеной, через нее же не проникнуть нашему взгляду. И, стало быть, если в произведении какого-нибудь художника мы видим неестественное, нелепость или бессмыслицу, которая возмущает наш здравый рассудок и наше чувство, то происходит это лишь оттого, что предметы соединены между собой неподобающим и неразумным образом, что каким-то частям целого здесь вовсе не место, а остальные связаны недолжным путем. Человек более высокого ума избежал бы неудачи и создал из того же материала нечто прекрасное и достойное.