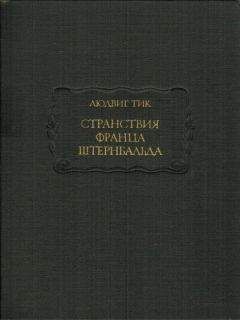— Вы заблуждаетесь на мой счет, — возразил Альбрехт, — ежели полагаете, будто я так горазд на выдумку. Лишь немногие мои картины родились из одного лишь моего намерения, обыкновенно же их вызывает к жизни какое-либо случайное обстоятельство. Например, я слышу похвалы чьей-либо картине, слышу рассказ из Священного писания, и вдруг чувствую, как во мне пробуждается жажда изобразить это, именно это, а не что иное. Настоящее же созидание — вещь редкая, создавать нечто дотоле неслыханное — дар особый и удивительный. То, что кажется нам новым созданием, обычно составлено из того, что уже было ранее; но способ компоновать делает его в какой-то мере новым; да ведь и создавший первым тоже лишь компоновал свой сюжет, свою картину из того, что уже было — в опыте, в мыслях и воспоминаниях, из того, что он читал или слышал.
— Очень справедливо, — сказал Лука, — в буквальном смысле слова создать нечто из ничего — это было бы наистраннейшее, что вообще может приключиться с человеком. Что-то вроде нового способа сходить с ума, ибо и безумец не выдумывает ведь свой бред. Природа — вот кто созидает, всем художествам передает она драгоценности своей великой сокровищницы; мы лишь подражаем природе, наше вдохновение, наши выдумки, наше стремление к новизне и совершенству сродни внимательному взгляду младенца, который не упускает ни одного движения матери… Но знаете ли, Альбрехт, что можно заключить из этого наблюдения? Что, стало быть, сами по себе вещи, которые хочет изобразить поэт или художник, или творец в какой-либо другой области искусства, не могут быть противоестественны, ибо самая безумная мысль, если она пришла в голову мне, человеку, уже потому естественна и ее можно выразить и сообщить другим. От области подлинно неестественного мы отделены высокой стеной, через нее же не проникнуть нашему взгляду. И, стало быть, если в произведении какого-нибудь художника мы видим неестественное, нелепость или бессмыслицу, которая возмущает наш здравый рассудок и наше чувство, то происходит это лишь оттого, что предметы соединены между собой неподобающим и неразумным образом, что каким-то частям целого здесь вовсе не место, а остальные связаны недолжным путем. Человек более высокого ума избежал бы неудачи и создал из того же материала нечто прекрасное и достойное.
Дюрер одобрительно кивал и хотел было продолжить разговор, однако тут супруга Луки воскликнула:
— Но, милые вы мои, прекратите, наконец, ваши высокоученые разглагольствования, в которых мы, женщины, ни словечка не понимаем. Мы сидим за столом, а не в церкви, оставьте вашу серьезность и науку на потом.
Она налила каждому по большому бокалу вина и спросила у Дюрера, что нового увидел и услышал он во время путешествия. Альбрехт стал рассказывать, а Франц Штернбальд погрузился в глубокое раздумье. В последних словах Луки ему забрезжил свет, разгадка всех его сомнений, — но никак не удавалось четко додумать мысль до конца; от своего учителя он еще никогда не слышал подобных суждений об искусстве, не встречал их и ни в одной из его книг; ему даже показалось, что Дюрер не оценил эти мысли по достоинству, не заметил, какие важные следуют из них выводы. Франц не мог даже вслушиваться в шедший сейчас за столом разговор, тем более что хозяйка дома начала расспрашивать о платьях, в каких ходят в Нюрнберге женщины различных сословий, и с ног до головы оглядывала наряд Дюреровой супруги.
Вдруг Лука как всегда стремительно вскочил из-за стола, бросился жене на шею и вскричал:
— Милое мое дитя, позволь мне все же вернуться к разговору с мастером Альбертом о живописи, ибо мне пришел в голову один вопрос. Грех был бы принимать такого человека у себя в доме и не высказать все, что у меня на сердце.
— По мне так поступай как хочешь. — отвечала она, — но что скажет на это наша гостья из Нюрнберга 11*?
— Мне не привыкать стать, — сказала Дюрерова супруга, — таковы у него обычно застольные беседы. Мой муж всегда последним узнает городские новости, и ежели изредка сочтет нужным рассказать мне что-нибудь, так сообщать ему нечего, разве только опять что-то приключилось с Мартином Лютером.
— Как мы могли забыть о нем! — воскликнул Дюрер, поднимая свой наполненный бокал. — Многая лета! Многая лета великому доктору Мартину Лютеру! На благо и процветание церкви и всем нам!
Лука чокнулся с ним, улыбаясь.
— Тост этот, правда, еретический, — сказал он, — но из уважения к вам я все же выпью. Боюсь лишь, что миру придется пройти через много испытаний, прежде чем утвердится новая вера.
Альбрехт возразил:
— Ежели мы хлеб наш насущный добываем в поте лица, то истина тем более стоит мук и печалей.
— Все это — мнения, — ответил Лука. — О них пусть лучше спорят богословы и ученые, я же тут ничего не смыслю. Я хотел, мастер Альбрехт, спросить вас о другом. Мне всегда очень нравится, что и в картинах на старинные сюжеты вы используете одежды более нового времени или сами придумываете совсем необычное платье. Я подражал и этой вашей особенности, находя ее весьма приятной.
Альбрехт ответил:
— Я поступаю так с намерением и обдуманно, и такой способ всегда казался мне короче и лучше изучения древних одеяний, какие носили в такой-то стране и в такую-то эпоху. Я ведь не для того пишу картину, чтоб познакомить зрителя с давно забытыми одеждами, а для того, чтобы он почувствовал изображенный сюжет; платье — лишь неизбежное зло. И, стало быть, иной раз я приближаю библейский или языческий сюжет к глазам моего зрителя, представляя ему мои фигуры в таких же одеждах, какие носит он сам. Тогда предмет картины перестает быть ему чуждым, тем более, что и наше платье весьма живописно, если как следует подобрать наряд. И разве, читая историю, которая трогает нас и восхищает, мы думаем о том, как были одеты ее герои? Разве не рады мы были бы увидеть Спасителя среди нас, в таких же одеждах, что и мы? Не напоминай людям об исторической точности костюмов, и они легко об этом забывают. Вдобавок старинные одежды на наших картинах часто выглядят мертво и чужеродно, ибо, как бы ни выхвалялся художник, изображение этой одежды ему не дается, он никогда ни на ком ее не видел, не привык к расположению ее складок и объемов, глаз ему не в помощь, он опирается только на воображение, которое притом не слишком захвачено задачей. Натурщик, облаченный в соответствующие одеяния, никогда не заменит художнику наблюдений над действительностью. Кроме того, я считаю нужным и всегда стараюсь использовать одежду характеристически, т. е. так, чтобы она подчеркивала выражение и смысл данной фигуры. Потому я часто создаю в своем воображении платья и облачения, каких быть может никогда не носили. Признаюсь, я люблю посадить на голову наглого злодея шапку причудливой формы или отмечаю его наружность еще каким-нибудь знаком; ибо ведь высшая наша цель — чтобы в фигуре говорила и каждая черта в отдельности и все вместе взятое.
— В этом я полностью с вами согласен, — сказал Лука. — Вы можете убедиться, что это обыкновение я перенял у вас, только что вы больше моего размышляли об этом. Нечто подобное замечал я также во многих работах Рафаэля Санцио, которые приходилось мне видеть.
— К чему, — воскликнул Альбрехт, — ученая доскональность, тщательное изучение старых позабытых одежд, которые ведь все равно не могут и не должны играть первостепенную роль? Воистину, слишком велико мое уважение к живописи как таковой, чтобы я стал растрачивать на подобные исследования труд и время, в особенности же потому, что настоящей правды нам тут все равно не достичь.
— Пейте, пейте, — сказал Лука, вновь наполняя пустые бокалы, — а потом скажите мне, в чем причина того, что вы занимаетесь многими вещами, которые можно бы, пожалуй, назвать недостойными вашего высокого дарования. Почему вы не жалеете труда на то, чтобы делать столь тонкие и изящные гравюры на дереве?
— Сам не знаю, почему, — ответил ему Альбрехт. — Видите ли, друг мой Лука, человек — удивительное существо; когда я порой думаю об этом, мне всегда приходит на ум, что непостижимый дух человеческий бьет ключом и хочет проявить себя на тысячу ладов. Он начинает искать и находит у поэта — язык, у музыканта — известное число инструментов с их струнами, у художника — краски и пять пальцев руки. Он пробует, что получится, если воспользоваться этими неловкими орудиями, и всякий раз остается недоволен, но ничего лучшего найти не может. У меня, волею неба, кровь спокойно течет в жилах, и потому я никогда не испытываю нетерпения. Я все время начинаю что-то новое и все время возвращаюсь к старому. Когда я напишу большую картину, после этого меня обычно тянет к деревянной гравюре, хочется сделать что-нибудь совсем маленькое и изящное, и я провожу целые дни за этой тонкой работой. То же и с моими гравюрами на меди. Чем больше труда я в них вложил, тем они мне милее. После них меня тянет к работе, которая делается быстрее и вольнее, и так я избегаю однообразия, и каждая манера сохраняет для меня прелесть новизны. Сверх того, любовь к труду тщательному и усердному представляется мне свойством, присущим нам, немцам, от рождения; это словно бы наша стихия, где нам хорошо и свободно. Все произведения искусства, которыми славен Нюрнберг, отмечены этой особой любовью, с которой мастер довел их до конца, ни одной частности не оставляя без внимания, ничем не пренебрегая; и то же, пожалуй, можно сказать и об остальной Германии, а также о Нидерландах.