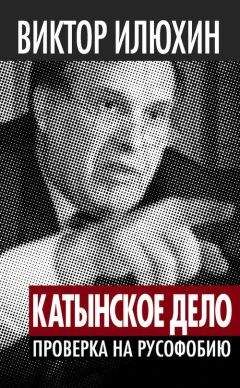Крылов явно почувствовал психологическую неубедительность и обращения Воронушка : уменьшительно-ласкательный суффикс, пожалуй, не столько смягчает, сколько подчеркивает «воронью сущность» адресата: ворона остается вороной, как ни крути. А вот когда Ворона зовется Голубушкой, ситуация меняется, и радикальным образом.
Как должен среагировать Евгений на то, что к нему обращаются, допустим, Агафон ? Или Акулина – на то, что ее назвали Селиной ? Вероятно, в первую очередь они оглянутся кругом – в поисках тех самых Агафона и Селины, а затем постараются поправить говорящего и т. п. Кстати, наша Ворона, даже будучи самой здравомыслящей вороной в мире, могла бы все равно остаться без завтрака – от неожиданности и изумления (мол, что ж это творится с Лисицей, белены объелась, что ли, коль меня, Ворону, величает Голубушкою?) широко разинув рот!..
Но в том-то и дело, что обладательница кусочка сыра ни капли не удивилась – «проглотила» двусмысленное приветствие, не поморщившись и не поперхнувшись, как должное. Стоит заметить, что Голубушка стоит в начале стиха и в начале прямой речи – и в силу этого начинается с прописной буквы. Вместе с тем эта графическая особенность исподволь, по крайней мере визуально возводит нарицательное существительное в статус имени собственного. Кроме того, «приголубив» Ворону, плутовка кардинально меняет и цветовые характеристики адресата своей лести: ворона естественным образом ассоциируется с темными, мрачными тонами, символизирующими низовую, «плотскую» (т. е. подверженную тлению), нечистую [56] , смертельную, греховную и даже адскую сторону бытия [57] , тогда как голубушка — со светлыми, высокими, чистыми, небесными, которые традиционно соотносятся с красотой, непорочностью, духовной, божественной природой, колоритом Жизни. Ворон (ворона) – голубь (голубица) составляют одну из символических оппозиций, корни которой уходят в глубокую древность [58] .
Надо сказать, что Лисица (разумеется, с подачи Крылова) исключительно точно выстраивает свою хвалу: композиция держится на четко обозначенных перекличках, играющих роль смысловых скреп. Так, голубушка отзовется затем ангельским голоском и в довершение – светиком. Еще раз подчеркну: в художественном мире крыловской басни «работают» оба – как переносное, так и первичное – значения. А вот то, какое из них актуализируется, зависит от того, в пространство сознания какого именно персонажа попадает слово. Вполне можно допустить, что, называя Ворону светиком, Лисица всего лишь использует «выражение приветственное, изъявляющее ласку» [59] , а предполагая у нее наличие ангельского голоска, имеет в виду вовсе не небесную природу его, а только нежность и «приятство». Однако правка, которую Крылов вносил в текст на протяжении ряда лет, позволяет утверждать обратное: поэт снимает сравнение с соловьем, продержавшееся довольно долго – в первых трех публикациях басни:
Я, чай, ведь соловья ты чище и нежнее (1808)
Я, чай, ведь ты поешь и соловья нежнее (1809, 1811)
В свое время «соловьиная» тема получила – стоит признать, довольно неуклюжее – воплощение у Сумарокова:
Ворона горлышко разинула пошире,
Чтоб быти соловьем…
Однако в значительно большей степени источником не удовлетворившего Крылова стиха [60] могла послужить хвостовская притча:
Я чаю, голосок
Приятен у тебя и нежен и высок.
Заметим, однако: Крылов старательно вычищает из речи Лисицы «прямую описательность» – не остается ни одной портретной детали, обозначающей какое бы то ни было конкретное качество. Единственный сохранившийся эпитет – ангельский — метафоричен и в силу этого двусмыслен (кто-то справедливо заметил, что «внутренне метафора всегда иронична»). Да и тот подан в модальности предположительности: «И, верно, ангельский быть должен голосок»! На этой особенности монолога рыжей обманщицы мы еще остановимся в своем месте, а пока два слова о возможном генезисе этого эпитета.
«Ворона глупая» из притчи Хвостова
от радости мечтала,
Что Каталани стала…
Большинству современных читателей имя красавицы-итальянки, обладательницы сопрано дивной красоты и высоты, известно скорее всего по заключительным строкам пушкинского мадригала «Княгине 3. А. Волконской» (1827) [61] , а вот в начале XIX столетия оно было едва ли не нарицательным, что, собственно, и демонстрирует хвостовская притча. Изюминка здесь, однако, в том, что Каталани звали… Angelica, Анджелика. Имя происходит от латинского ‘angelicus’, что в переводе означает ангельский [62] . Таким образом, стих Хвостова, возможно, подтолкнул, помимо прочих причин, Крылова на замену соловьиного пения ангельским голоском. Впрочем, на истинности высказанной гипотезы я не настаиваю, тем более, что решающего значения для понимания сути описанного у Крылова она не имеет, тогда как то, какое действие льстивые речи производят в сознании вещуньи, – отнюдь немаловажно. Можно ли, например, исключить, что светик с ангельским, соединившись в ее голове, превратятся в сочетание ангел света, которое в конечном счете Ворона отнесет к себе самой? Не этого ли эффекта и добивается коварная Лиса? Во всяком случае на наших глазах она преображает «смуглянку» ворону в «белянку» голубку, буквально черное выдает за белое. Такого рода словесные манипуляции, как известно, имеют четкое терминологическое определение: инверсия. Но с инверсией мы уже сталкивались в самом начале басенного рассказа. Тогда мы предположили, что поэт прибег к этому приему с вполне определенной целью – указать на инвертированность сознания героини. Что ж, кажется, это не было ошибкой: Ворона принимает «приветливы Лисицыны слова» за чистую монету именно потому, что льстица говорит на ее языке, и то, что она хочет услышать!
Однако вернемся к композиционным особенностям «похвального слова». Выше мы уже отметили, что взор Лисицы прикован к «лицу» Вороны: шейку, глазки, перушки, носок в совокупности обрамляют вожделенный кусочек сыра. Но это только внешняя сторона, самый верхний слой смысла – все обстоит гораздо интереснее. Дело в том, что у «приветливых слов» Лисицы имеется культурно-исторический прецедент, ориентацию на который – хотя бы на подсознательном уровне – не могли не различать современники баснописца. Итак, схема похвалы такова:
голубушка > красивое «лицо» > «сладостный, весьма приятный, пленяющий » голос > просьба спеть.
А теперь вспомним: « Голубица <…> покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно » (Песн. 2:14). [63] Совпадение практически стопроцентное. Однако это не единственная перекличка крыловской басни с ветхозаветной «Песнью песней». Буквально следом за приведенным стихом читаем: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» (Песн. 2:15). Если принять распространенное мнение, согласно которому виноградники аллегорически обозначают красоту, чистоту, свежесть, молодость Суламиты – т. е. ее природные дары, – то ее признание в том, что она «собственного виноградника <…> не стерегла » (Песн. 1:5), довольно легко экстраполируется на басенную ситуацию: Ворона не сберегла своего «виноградника» – и речь идет, конечно, не столько о кусочке сыра, сколько о внутреннем мире, деформированном самолюбованием и тщеславием.
Пожалуй, сопоставление с «Песнью песней» позволяет объяснить еще одну странную деталь, а именно породу дерева, на котором расположилась на завтрак Ворона. «В докрыловской традиции <…>, – пишет в связи с этим С. А. Фомичев, – казалось несущественным, на дерево какой породы уселась ворона со своей добычей (только у Сумарокова сказано конкретно: “на дуб села”). У Крылова же – ель; возможно, это подсказано известным русским обычаем вывешивать на кабаке еловую ветку, что обусловило фразеологическую синонимичность: ель – кабак ; ср.: “идти под елку” (в кабак); “елка (кабак) чище метлы подметает”» (курсив авт. – А. К.) [64] . В эти рассуждения вкралась явная неточность: в докрыловской традиции о породе дерева говорилось не только у Сумарокова – в поле зрения исследователя не попала Ворона из притчи Д. И. Хвостова, присевшая «на кусток ореховый ». Представить ворону, сидящую на кусте орешника, довольно трудно – кажется, «отец зубастых голубей» здесь, как это часто с ним случалось, несколько увлекся [65] . Однако отдадим ему справедливость: именно он первым понизил статус «пиршественного» локуса – Крылов же «всего лишь» придал находке Хвостова более естественное «хвойное» обличье.