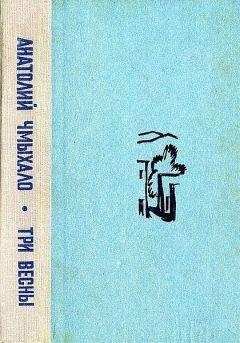Демократия. Нам бы поучиться хотя бы её азам у тех же финнов. У второго по величине города страны два имени: финское — Турку и шведское — Або. Десять процентов населения города шведы, и здесь функционирует шведский университет. Милости просим обучаться на родном языке!
И ни у кого нет тоски по автономной республике с вытекающими отсюда последствиями. Нет ни министров, ни главков, а есть лишь муниципалитет, как в любом другом городе страны. Здесь все живут одной семьей, не отдавая предпочтений ни одной нации. Вот так бы жить и нам, мои уважаемые россияне!
Однако, Ванюша, вернемся к нашим баранам. А бараны в данном случае — гости Суоми, члены советской писательской делегации. 1969 год. Наша поездка по стране подошла к концу. Мы побывали на северных озерах, нас попарили в сауне, этом финском чуде. Осталось собрать в дорогу вещи и готовиться ко сну. Поезд на Выборг отходит в два ночи, а сейчас уже шесть вечера.
Пока мы прогуливались перед сном, к гостинице подошел автобус с молоденькими финночками. Девушки окружили главу нашей делегации Аркадия Васильева и всех пригласили к себе.
А предприятие у них куда как оригинальное: фабрика жевательной резинки. Здесь работают четыреста девушек и только один парень — электрик.
Мы приняли их вызов. Ехать, так ехать, тем более, что это не так уж далеко. Несколько поворотов автобуса — и мы в просторном зрительном зале. Вот это да! На нас, иностранцев, отовсюду устремлены любопытные девичьи взгляды. Финночки оживленно переговаривались между собой, смеялись. Нам тоже весело, чего же грустить?
Прежде чем начать наш вечер, зал делегировал на сцену того самого электрика. Мол, нет мужиков, так и этот не мужчина. Пусть не путается под ногами. Да теперь как бы соблюдается равноправие полов: вы — там, мы — здесь. И никому не обидно.
Первыми выступали старики. Апломба много, а видимости — никакой. Уныло брели к микрофону и в том же ключе возвращались к столу. Представитель карелов Антти Тимонен нежно называл финнов родными братьями. Они действительно находятся в близком родстве и Антти не открывал истину. Народы живут рядом друг с другом. О чем же речь?
Затем пошли выступать советские евреи. Они обижались на Гитлера и хвалили Иосифа Виссарионовича. Этого и следовало ожидать. Кого же вождь любил более всего, как не евреев? Но особого энтузиазма в их речах почему-то не было. Ораторы не забыли борьбы с сионизмом, жертвами которой стали их соплеменники.
Но девушки больше интересовались жизнью молодежи в России. Хватает ли молодым заработка для безбедного существования? Достаточно ли кинотеатров и танцзалов?
Вечер затягивался. Финночки уже начинали зевать, некоторые из них стали поглядывать на выход. И я, самый молодой в нашей компании, решил про себя, что выступать мне ни к чему. Но старики заставили хотя бы выйти к микрофону и поклониться публике, сказав ей пару теплых слов.
Я так и сделал. И прямо в лоб получил ошеломляющий вопрос:
— А много у вас красивых парней?
— Много! — не задумываясь, ответил я.
— Ой, дед! — воскликнул внук Ванечка.
— Да так уж получилось.
— А что потом?
А потом было оживленное движение в зале одновременно со взрывом смеха. Среди множества выкриков я уловил возглас на чистом русском:
— Нам бы туда!
Порядок вечера был такой. Когда кто-то из писателей заканчивал выступление, на сцену поднималась финночка с букетом цветов. Это были свежие алые розы. Не стал исключением и я. Публика делегировала ко мне трясогузочку с аккуратно убранной милой головкой. Она не только вручила букет, но приподнялась на цыпочки и звонко поцеловала меня в губы. И я ответил ей тем же.
И что тут началось! Не успела трясогузочка спуститься в партер, как зал бросился выстраивать очередь. Девичья шеренга обогнула первые ряды мест и снова потянулась к сцене.
Я воспринял происходящее в зале за шутку. Но девушки, одна за другой, стали подходить ко мне и каждая целовала меня со смаком, а затем отваливала в сторону, уступая место очередной пассии. Аудитория ревела от восторга, а я едва успевал подставлять красоткам свои полыхающие жаром губы.
Этим достаточно ярким впечатлением и закончилось мое воспоминание о Суоми. Ваня внимательно слушал меня и улыбался. И вдруг поинтересовался:
— А что же было дальше?
А что еще могло быть? А ничего! Правда, когда следующая делегация писателей оказалась в Финляндии, на одной из встреч её спросили:
— Нельзя ли прислать к нам того самого парня?
Одно уже то, что они помнили обо мне, показалось куда как значительным и даже лестным.
В воздухе витала необходимость больших перемен, хотя до самой перестройки оставалось еще несколько лет жарких диспутов, академических исследований, досужих рассуждений. Но с больших и малых трибун уже слышались клятвенные слова о великой любви к России, о стремлении видеть ее красивой, а не с уродливой мордой дебила. Даже закостенелая в большевизме «Правда» старалась выглядеть святее самого папы, но не римского, а доморощенного, независимо от того, как его звали: Андропов, Черненко или Горбачев. Направо и налево раздавались обещания накормить отощавших пенсионеров, дать им в порядке премии по бесплатному относительно благоустроенному гробу, а остающимся в живых построить отдельные квартиры. Очевидно, имелись в виду те же могилы.
Пушки, из которых велась прицельная стрельба по Белому дому, еще мирно ржавели в артиллерийских парках, а пластмассовые каски шахтеров использовались по своему прямому назначению. И Собчак не доставал военного министра за тбилисские события, и молчал в тряпочку бравый полковник Алкснис, и еще только начинали запасаться оружием чеченские сепаратисты.
Казалось, жизнь идет своей чередой, как и положено ей идти. Но старшее поколение вождей испускало последний дух опять же наигранного ими энтузиазма. Указы подписывались преимущественно в шикарных палатах кремлевской больницы. И деревенские меломаны не восторгались «Лебединым озером», но уже всё чаще по центральному телевидению звучали жизнеутверждающие лирические песни Пахмутовой и Добронравова о романтике таежных костров и палаток.
Однако уже тогда выходили из тени будущие хозяева России. Это были комсомольские вожаки в основном областного и городского масштаба. В принципе, те же самые волки, только изворотливее и злее. И их надежным трамплином для прыжка в светлое завтра были пресловутые строительные отряды, формировавшиеся из молодежи. Эти ловкачи были много мудрее и преприимчивее ущербных литературных корчагиных и мересьевых. Они не откладывали коммунистический рай на далекие времена, а творили его сегодня и только для самих себя.
Был такой отряд и в нашем Шарыпове. Село буквально кипело новыми идеями и преобразованиями. От темного прошлого здесь только и остались карликовые извилистые улицы да ничем не отменная речка Темрушка, всерьез напоминающая о себе лишь при весеннем разливе.
Но, как ни покажется странным, мне нравилась именно былая провинциальная заторканность районного центра. Ни тебе заезжих артистов, ни тебе почетных министров. Зато были в Шарыпове колоритные сибирские старики и старухи, которых и послушать считалось за большое счастье. А какие тут были спевки по вечерам! Тусовался народ на деревенских лавочках и завалинках и заводил на свой лад озорные частушки, от которых вяли уши, но почему-то оттаивали души.
И высоко в небо, под самые облака, взлетала над Шарыповом ослепительно белая чайка. Её видно было за тридцать километров со стороны Большого божьего озера. Она не махала крыльями, а несуетно плыла между туч, гордо выпятив высокую грудь и выпрямив тонкую шею. Она как бы собиралась протрубить на всю округу о несравненной радости жить на родимой земле.
Это была церковь Спаса с приделом Параскевы Пятницы. Я не видел храма в счастливый период его благополучия и расцвета. Не видел его разграбления и превращения в руины. Но мне рассказывали, как некто Московкин, местный марксист и жулик, ловко взбирался по лестницам, чтобы сбросить вниз тяжелые медные колокола. А вокруг церкви в отчаянии ползали на коленях прихожанки и молили Господа Бога, чтобы у разорителей отсохли нечистые руки.
Бог услышал их. Моя жена Валентина видела, как торговал орехами на красноярском рынке однорукий безбожник. Она узнала его, это он глумился над шарыповской святыней.
Я же был свидетелем уже окончательного разрушения храма. Сперва его использовали, как амбар для хранения хлеба. Затем кому-то пришло в коммунистическую пустую голову разобрать его по кирпичику и пустить на фундамент строившегося здания райисполкома. Да почему кому-то? Ах, эта наша интеллигентская деликатность, натворившая уже столько бед! Ведь я же знаю фамилию вандала, но почему-то хотел замолчать её. Может, потому, что почти все мы в какой-то степени были истребителями святой Руси. Одни глумились над нею, другие терпеливо сносили это. А инициатором и руководителем сноса церкви был первый секретарь Шарыповского райкома партии сионист Бурштейн, да будет проклята его память!