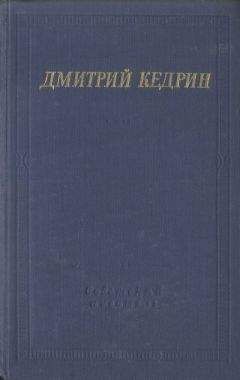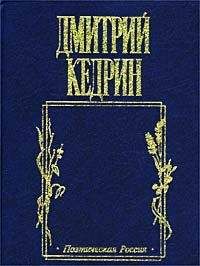35. ДУМА
Батька сыну говорит: «Не мешкай!
Навостри поди кривую шашку!..»
Сын на батьку поглядел с усмешкой,
Выпил
И на стол поставил чашку.
«Обойдется! — отвечал он хрипло.—
Стар ты, батька, так и празднуй труса!
Ну, а я еще горелки выпью,
Сала съем и рушником утруся».
Всю субботу на страстной неделе
До рассвета хлопцы пировали,
Пиво пили, саламату ели,
Утирали губы рукавами.
Утром псы завыли без причины,
Крик «Алла!» повис над берегами,
Выползали на берег турчины,
В их зубах — кривые ятаганы.
Не видать конца турецкой силе:
Черной тучей лезут янычары!
Женщины в селе заголосили,
Маленькие дети закричали!
А у тех османов Суд короткий:
Женскою не тронулись слезою,
Заковали пахарей в колодки
И ведут невольников к Азову.
Да и сам казак недолго пожил,
Что отцу ответил гордым словом:
Снял паша
С хмельного хлопца кожу
И набил ее сухой половой.
Посадил его, беднягу, на кол, —
Не поспел казак опохмелиться!..
Шапку снял и горестно заплакал
Над покойным батька смуглолицый:
«Не пришлось мне малых внуков нянчить
Под твоею крышей, сыну милый!
Я стою, седой, как одуванчик,
Над твоею раннею могилой.
Знать, глаза тебе песком задуло,
Что без пользы сгинул ты, задаром.
Я возьму казацкую бандуру
И пойду с бандурой по базарам.
Подниму свои слепые очи
И скажу такое слово храбрым:
Кто в цепях в Стамбул идти не хочет —
Не снимай руки
С турецкой сабли!..»
1939
Весной в саду я зяблика поймал.
Его лучок захлопнул пастью волчьей.
Лесной певец, он был пуглив и мал,
Но, как герой, неволю встретил молча.
Он петь привык лесное торжество
Под светлым солнышком на клейкой ветке.
Нет! Золотая песенка его
Не прозвучит в убогой этой клетке!
Упрямец! Он не походил на нас,
Больных людей, уступчивых и дряблых:
Нахохлившись, он молчаливо гас,
Невольник мой, мой горделивый зяблик.
Горсть муравьиных лакомых яиц
Не вызвала его счастливой трели.
В глаза ручных моих домашних птиц
Его глаза презрительно смотрели.
Он всё глядел на поле за окном
Сквозь частых проволок густую сетку,
Но я задернул грубым полотном
Его слегка качавшуюся клетку.
И, чувствуя, как за его тюрьмой
Весна цветет всё чище, всё чудесней, —
Он засвистал!.. Что делать, милый мой?
В неволе остается только песня!
1939
Пасмурный щегол и шустрый чижик
Зерна щелкают, водою брызжут —
И никак не уживутся вместе
В тесной клетке на одном насесте.
Много перьев красных и зеленых
Потеряли чижик и щегленок,
Так и норовят пустые птицы
За хохлы друг другу ухватиться.
Глупые пичуги! Неужели
Не одно зерно вы в клетке ели,
Не в одной кормушке воду пили?..
Что ж неволю вы не поделили?
1939
Когда я уйду,
Я оставлю мой голос
На черном кружке.
Заведи патефон,
И вот
Под иголочкой,
Тонкой, как волос,
От гибкой пластинки
Отделится он.
Немножко глухой
И немножко картавый,
Мой голос тебе
Прочитает стихи,
Окликнет по имени,
Спросит:
«Устала?»,
Наскажет
Немало смешной чепухи.
И сколько бы ни было
Злого, дурного,
Печалей,
Обид,—
Ты забудешь о них.
Тебе померещится,
Будто бы снова
Мы ходим в кино,
Разбиваем цветник.
Лицо твое
Тронет волненья румянец.
Забывшись,
Ты тихо шепнешь:
«Покажись!..»
Пластинка хрипнёт
И окончит свой танец —
Короткий,
Такой же недолгий,
Как жизнь.
1939
Я рожден для того, чтобы старый поэт
Обо мне говорил золотыми стихами,
Чтобы Дафнис и Хлоя в четырнадцать лет
Надо мною впервые смешали дыханье,
Чтоб невеста, лицо погружая в меня,
Скрыла нежный румянец в минуту помолвки.
Я рожден, чтоб в сиянии майского дня
Трепетать в золотистых кудрях комсомолки.
Одинаково вхож во дворец и в избу,
Я зарей позолочен и выкупан в росах…
Если смерть проезжает в стандартном гробу,
Торопливая, на неуклюжих колесах,
То друзья и на гроб возлагают венок,—
Чтоб и в тленье мои лепестки трепетали.
Тот, кто умер, в могиле не так одинок
И несчастен, покуда там пахнет цветами.
Украшая постельку, где плачет дитя,
И могильной ограды высокие жерди,
Я рожден утешать вас, равно золотя
И восторги любви и терзания смерти.
1939
Царь Дакии,
Господень бич,
Аттила, —
Предшественник Железного Хромца,
Рожденного седым,
С кровавым сгустком
В ладони детской, —
Поводырь убийц,
Кормивший смертью с острия меча
Растерзанный и падший мир,
Работник,
Оравший твердь копьем,
Дикарь,
С петель
Сорвавший дверь Европы, —
Был уродец.
Большеголовый,
Щуплый, как дитя,
Он походил на карлика,
И копоть
Изрубленной мечами смуглоты
На шишковатом лбу его лежала.
Жег взгляд его, как греческий огонь,
Рыжели волосы его, как ворох
Изломанных орлиных перьев.
Мир
В его ладони детской был — как птица,
Как воробей,
Которого вольна,
Играя, задушить рука ребенка.
Водоворот его орды крутил
Тьму человечьих щеп,
Всю сволочь мира:
Германец — увалень,
Проныра — беглый раб,
Грек — ренегат, порочный и лукавый,
Косой монгол и вороватый скиф
Кладь громоздили на ее телеги.
Костры шипели.
Женщины бранились.
В навозе дети пачкали зады.
Ослы рыдали.
На горбах верблюжьих,
Бродя, скисало в бурдюках вино.
Косматые лошадки в тороках
Едва тащили, оступаясь, всю
Монастырей разграбленную святость.
Вонючий мул в оческах гривы нес
Бесценные закладки папских библий,
И по пути колол ему бока
Украденным клейнодом —
Царским скиптром —
Хромой дикарь,
Свою дурную хворь
Одетым в рубища патрицианкам
Даривший снисходительно…
Орда
Шла в золоте,
На кладах почивала!
Один Аттила — голову во сне
Покоил на простой луке седельной,
Был целомудр,
Пил только воду,
Ел
Отвар ячменный в деревянной чаше.
Он лишь один — диковинный урод —
Не понимал, как хмель врачует сердце,
Как мучит женская любовь,
Как страсть
Сухим морозом тело сотрясает.
Косматый волхв славянский говорил,
Что, глядя в зеркало меча,
Аттила
Провидит будущее,
Тайный смысл
Безмерного течения на Запад
Азийских толп…
И впрямь Аттила знал
Судьбу свою — водителя народов.
Зажавший плоть в железном кулаке,
В поту ходивший с лейкою кровавой
Над пажитью костей и черепов,
Садовник бед, он жил для урожая,
Собрать который внукам суждено!
Кто знает — где Аттила повстречал
Прелестную парфянскую царевну?
Неведомо!
Кто знает — какова
Она была?
Бог весть!
Но посетило
Аттилу чувство,
И свила любовь
Свое гнездо в его дремучем сердце.
В бревенчатом дубовом терему
Играли свадьбу.
На столах дубовых
Дымилась снедь.
Дубовых скамей ряд
Под грузом ляжек каменных ломился.
Пыланьем факелов,
Мерцаньем плошек
Был озарен тот сумрачный чертог.
Свет ударял в сарматские щиты,
Блуждал в мечах, перекрестивших стены,
Лизал ножи…
Кабанья голова,
На пир ощерясь мертвыми клыками,
Венчала стол,
И голуби в меду
Дразнили нежностью неизреченной!
Уже скамейки рушились,
Уже
Ребрастый пес, пинаемый ногами,
Лизал блевоту с деревянных ртов
Давно бесчувственных, как бревна, пьяниц,
Сброд пировал.
Тут колотил шута
Воловьей костью варвар низколобый,
Там хохотал, зажмурив очи, гунн,
Багроволикий и рыжебородый,
Блаженно запустивший пятерню
В копну волос свалявшихся и вшивых.
Звучала брань.
Гудели днища бубнов,
Стонали домбры.
Детским альтом пел
Седой кастрат, бежавший из капеллы.
И длился пир…
А над бесчинством пира,
Над дикой свадьбой,
Очумев в дыму,
Меж закопченных стен чертога
Летал, на цепь посаженный, орел —
Полуслепой, встревоженный, тяжелый.
Он факелы горящие сшибал
Отяжелевшими в плену крылами,
И в лужах гасли уголья, шипя,
И бражников огарки обжигали,
И сброд рычал,
И тень орлиных крыл,
Как тень беды, носилась по чертогу!..
Средь буйства сборища
На грубом троне
Звездой сиял чудовищный жених.
Впервые в жизни сбросив плащ верблюжий
С широких плеч солдата, он надел
И бронзовые серьги, и железный
Венец царя.
Впервые в жизни он
У смуглой кисти застегнул широкий
Серебряный браслет,
И в первый раз
Застежек золоченые жуки
Его хитон пурпуровый пятнали.
Он кубками вливал в себя вино
И мясо жирное терзал руками.
Был потен лоб его.
С блестящих губ
Вдоль подбородка жир бараний стылый,
Белея, тек на бороду его.
Как у совы полночной,
Округлились
Его вином налитые глаза.
Его икота била.
Молотками
Гвоздил его железные виски
Всесильный хмель.
В текучих смерчах — черных
И пламенных —
Плыл перед ним чертог.
Сквозь черноту и пламя проступали
В глазах подобья шаткие вещей
И рушились в бездонные провалы!
Хмель клал его плашмя,
Хмель наливал
Железом руки,
Темнотой — глазницы,
Но с каменным упрямством дикаря,
Которым он создал себя,
Которым
Он в долгих битвах изводил врагов,
Дикарь борол и в этом ратоборстве:
Поверженный,
Он поднимался вновь,
Пил, хохотал, и ел, и сквернословил!
Так веселился он.
Казалось, весь
Он хочет выплеснуть себя, как чашу.
Казалось, что единым духом — всю
Он хочет выпить жизнь свою.
Казалось,
Всю мощь души,
Всю тела чистоту
Аттила хочет расточить в разгуле!
Когда ж, шатаясь,
Весь побагровев,
Весь потрясаем диким вожделеньем,
Ступил Аттила на ночной порог
Невесты сокровенного покоя, —
Не кончив песни, замолчал кастрат,
Утихли домбры,
Смолкли крики пира,
И тот порог посыпали пшеном…
Любовь!
Ты дверь, куда мы все стучим,
Путь в то гнездо, где девять кратких лун
Мы, прислонив колени к подбородку,
Блаженно ощущаем бытие,
Еще не отягченное сознаньем!..
Ночь шла.
Как вдруг
Из брачного чертога
К пирующим донесся женский вопль…
Валя столы,
Гудя пчелиным роем,
Толпою свадьба ринулась туда,
Взломала дверь и замерла у входа:
Мерцал ночник,
У ложа на ковре,
Закинув голову, лежал Аттила.
Он умирал.
Икая и хрипя,
Он скреб ковер и поводил ногами,
Как бы отталкивая смерть.
Зрачки
Остекленевшие свои уставя
На ком-то зримом одному ему,
Он коченел, мертвел и ужасался.
И если бы все полчища его,
Звеня мечами, кинулись на помощь
К нему,
И плотно б сдвинули щиты,
И копьями б его загородили,—
Раздвинув копья,
Разведя мечи,
Прошел бы среди них его противник,
За шиворот поднял бы дикаря,
Поставил бы на страшный поединок
И поборол бы вновь…
Так он лежал,
Весь расточенный,
Весь опустошенный
И двигал шеей,
Как бы удивлен,
Что руки смерти
Крепче рук Аттилы.
Так сердца взрывчатая полнота
Разорвала воловью оболочку —
И он погиб,
И женщина была
В его пути тем камнем, о который
Споткнулась жизнь его на всем скаку!
Мерцал ночник,
И девушка в углу,
Стуча зубами, молча содрогалась.
Как спирт и сахар, тек в окно рассвет,
Кричал петух.
И выпитая чаша
У ног вождя валялась на полу,
И сам он был — как выпитая чаша.
Тогда была отведена река,
Кремнистое и гальчатое русло
Обнажено лопатами, —
И в нем
Была рабами вырыта могила.
Волы в ярмах, украшенных цветами,
Торжественно везли один в другом —
Гроб золотой, серебряный и медный.
И в третьем —
Самом маленьком гробу —
Уродливый,
Немой,
Большеголовый,
Покоился невиданный мертвец.
Сыграли тризну, и вождя зарыли.
Разравнивая холм,
Над ним прошли
Бесчисленные полчища азийцев,
Реку вернули в прежнее русло,
Рабов зарезали
И скрылись в степи.
И черная
Властительная ночь,
В оправе грубых северных созвездий,
Осела крепким
Угольным пластом,
Крылом совы простерлась над могилой.
1933, 1940