Ознакомительная версия.
От ахматовской строгой взвешенности отличает нынешнего поэта вольная замашка, помогающая вынести задавленную ярость при мысли о прошедшем. Вот интересно: в настоящем лучше дерьма не касаться, в грязь не вляпываться, хранить пренебрежительное спокойствие, но при мысли о прошлом, да и о будущем – скомпенсироваться по полной:
Человек в России звучит страшно,
Как окончательный приговор.
Всё остальное уже неважно.
Мы чувствуем правду в упор.
Что же за правда?
Время тайных убийств
Без судов и следствий.
Просто пуля в затылок, и все дела.
Просто у самолета перелом крыла.
Просто нашествие стихийных бедствий.
Стихийные бедствия очень кстати после смертоносной жары 2010 года (чтобы не заглядывать за рубеж с их торнадо, тайфунами и цунами). За рубеж времени тоже лучше не заглядывать:
Мы еще вспомним Сталина с его шарашками.
Неприкрытую подлость глаза в глаза.
Мы еще вспомним Брежнева с Чебурашками,
Взлетающими в олимпийские небеса.
Имея такую ошарашивающую перспективу, не пора ли, наконец, вспомнить Господа Бога? Его Барабаш, естественно, поминает, и довольно часто. Приблизительно столько же, сколько его давние предшественники партию и коммунизм. Но дело ведь не в том, кто что поминает, а в том, что заставляет его это делать.
Бог у Барабаша – присказка. Поминается к случаю. Сидит где-то там на небесах дед седобровый и ухмыляется. В наших соблазнах и бедах – не повинен:
Блеск мишуры придуман не богами —
и тем ему назначена цена.
И сколько ни топчи его ногами, как виноград —
ни хлеба, ни вина.
Мы топчемся тут, а он – там.
Может, это он нам приснился? И мы его придумали… на досуге? Или это он придумал нас? Тоже на досуге – прилег и нашептал. А мы кинулись исполнять. Этакий свет в окошке!
Каждой пылинкой света, летящей к небу,
каждой былинкой, каждой былиной, каждой ракетой,
всякими шаттлами там, всякими там челноками,
мы поигрались немножко с богами, с веками.
Мы получили пригоршни ответов и горы задач…
Прыгал, звеня под рукою измученный мяч…
Ну, мяч, понятно. А вот насчет задач – поразительно точно сказано. А в результате всё оборачивается игрой. Скачет мячик. Бред какой-то нездешний… Да не бред, а сон! Притом сон поэтический. Вдохновение! У кого? У нас, естественно. То есть у Бога… искусственно. Искусно!
Бывает и у Бога вдохновение.
То Моцартом он будит страшный сон,
то Пушкина веселым дуновением
сметает пыль с нахмуренных икон.
То капельками, как свеча в бумагу,
Он открывает миру Пастернака.
То назначая тень пустым вещам
подмигивает, словно Мандельштам…
Без Мандельштама – никак…
Так есть что-нибудь «свыше» или нет?
Нет. Ничего нету. Не проистекает!
Чем больше близких оставляет нас,
тем мир иной становится нам ближе,
и выставляет, словно на показ, всё то,
что не проистекает свыше.
Так что если ближние станут тебя доедать, и ты вынужден будешь с этим смириться, вспомни, что ты – «божий дух в человечьей шкуре». Легче будет.
И не думай, что нет никакой связи между Всевышним, дремлющим в небесах, и нижним уровнем бытия, который в России таков… О, мы по опыту знаем, каков он в России:
Человек в России звучит страшно,
как окончательный приговор.
Всё остальное уже неважно.
Мы чувствуем правду в упор…
Сейчас сверкнет непременное мандельштамовское лезвие:
Сверкает лезвие брадобрея,
скользит по аорте то вверх, то вбок.
И всё-таки, чем человек добрее,
тем уязвленнее будет Бог.
Так что связь есть. Отрицательная. На Бога не надейся. Потому и не плошай. Ничего хорошего нас не ждет, если сам Бог уязвлен нашими успехами. В результате такой экспертизы грядущему веку предвещена чума.
Как спасаться?
«Плечом к плечу с народом».
Нет, теснее! «К заду – зад!». С юмором в заду. С нежностью на устах. И с твердостью в безжалостном сердце.
И чем нежнее ты вольешь
любовь в рифмованную твердость,
тем очевидней станет ложь
и тем бессмысленнее подлость.
То есть ни от лжи, ни от подлости не уйти. А чтобы этот фатум стал очевиден, нежно бесстрашие поэта. Жизнь впору отсчитывать заново. От нуля. Начинать приходится заново. С нуля.
«А чем помочь?»
В четырнадцать лет поэт со скучного городского тротуара мечтает «вернуться к травам»? (70-е годы на исходе).
В семнадцать лет, любуясь белизной деревенского снега и следами лосиных копыт на февральском насте, отдает себе отчет, что слякотный асфальт от снега не посветлеет, и сколь ни бежать от его проблем, возвращаться придется. (80-е уже наступили).
После сорока – «проклятые вопросы» лезут под шапку, и каждый волосок требует суда. Куда деваться? В секту? В запой? В трубу… всё в ту же – «вылететь в трубу»? (А уж новое тысячелетье на дворе).
Талант заставил выкладывать отчаяние на бумагу.
«Я знаю точно, что одна строка вернет нам всех, кого мы потеряли…»
Ах, если бы… Но если пытаться? Оттачивать слово? Испытывать его молчанием? И снова оттачивать…
«Можно словом кончать, но его невозможно прикончить».
Ни допеть песню, ни оборвать ее, ни исчерпать горечь, ни смириться с её неисчерпаемостью…
Родина, ты песня недопетая,
От которой пробирает знобь…
Знобь – знак подлинности тех чувств, с которыми оглядывается вокруг себя человек, получивший в наследство сначала «сто миллионов солнечных прозрений», а потом – в компенсацию – «пару рюмок с вашего стола».
Лев АННИНСКИЙ
Мы встретимся случайно.
Что за чушь?!
Мы встретимся
по Божьему веленью.
И будет не похоже на затменье
взаимное сложенье наших душ.
1977
Я помню ливень, капель суету,
кривлянье луж в танцующем саду.
Могилы близких и протяжный гром,
как скорбный марш грядущих похорон.
Мой мокрый посох – память о дождях,
сложноголосых, сверженных вождях.
Я весь оттуда, я останусь там,
идущим в ливень по пустым садам.
1979
Бывают времена.
В них прыгнешь, ну а дна
достанут лишь пронырливые внуки,
и там, где мы предполагали глубину
и тем спасались от смертельной скуки,
они пройдут по илистому дну,
лишь до колен
засучивая брюки.
1985
Я обещал ему жизнь вечную
и свет, сияющий в конце,
а он вдруг выскочил на встречную
с дебильной рожей на лице.
2000
Как это трудно – жить роман,
начертанный давно и точно,
искать по людям и домам
хоть два затерянных листочка,
хоть две нечитанных строки,
два неслучившихся мгновенья —
прикосновения руки
и губ твоих прикосновенья.
Опять сбывается глава.
Жизнь – это растворенье смысла
любви
на длинные слова
и одинаковые числа.
2005
Я не ушел, когда мне предложили.
Не предложили даже, а вложили
мне море знаний и вселенных снов,
сто миллионов солнечных прозрений,
семь миллиардов ваших откровений.
Я не ушел, я стал молоть эпохи,
нести фигню и вашу водку пить.
Но та фигня бывала так похожа
на истину,
что покрывалась кожа
мурашками,
и к памяти ползла
доисторической,
и пробиралась выше.
А мне бы две пригоршни ваших вишен,
мне б пару рюмок с вашего стола.
2006
В твоих словах уже слышна
такая искренность и воля,
что допускать в них не должна
ни тени зла, ни капли горя.
И чем нежнее ты вольешь
любовь в рифмованную твердость —
тем очевидней станет ложь,
и тем бессмысленнее подлость.
2007
Не вмешивайся в ход
неправедных событий.
Не забегай вперед
пульсирующей нити.
Не закрывай глаза
во сне или со страха.
Не говори точней,
чем вытерпит бумага.
2008
Когда тебя какой-нибудь Вергилий,
или Дуранте,
или Моисей
однажды поведет по той дороге,
где встретишь всех, кто мыслил,
как живых.
Живых настолько, что обратно «как»
вернет тебя к тому, где жил, не зная
о вечной жизни.
Вот когда тебя,
за руку взяв иль буквой зацепив
за лацкан уха, поведут туда —
ты будешь видеть и себя другого,
живущего в пустых календарях,
насущный хлеб свой добывая всуе
и растворяя мысли в словарях.
Ты будешь видеть все, и знать, и ведать,
и править тем, что где-то вдалеке,
в пыли межзвездной мыслимо едва ли…
Но не дай Бог, вернувшись в бренный мир,
в угоду страсти что-нибудь поправить
в том бесконечном зареве любви.
2014
Ознакомительная версия.
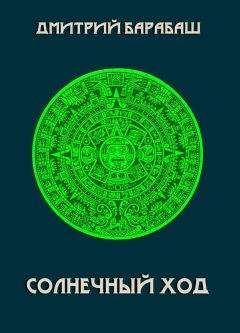


![Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](https://cdn.my-library.info/books/179113/179113.jpg)
![Адель Кутуй - Неотосланные письма [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/111709/111709.jpg)