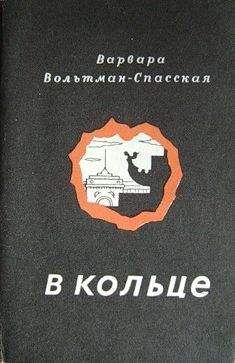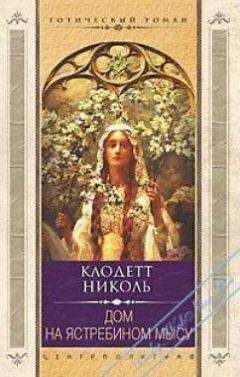Мужество
Я хлеб променяла на мыло,
Чтоб выстирать сыну бельё.
Я в чистом его положила,
Серёженьку, счастье моё.
Я гроб заказала, в уплату
Недельный паёк обещав.
А плотник сказал: — Маловато! —
Наверное, плотник был прав.
Соседку помочь позвала я,
Чтоб с лестницы сына снести.
Позёмка мела ледяная,
До кладбища долго идти.
Везла тебя тихо, так тихо,
Чтоб с саночек ты не упал…
Сказала в слезах сторожиха:
— Здесь гроб кто-то ночью украл.
Напрасно старались, мамаша,
Вы простынке зарыть бы сынка!.. —
О скорбное мужество наше,
О белая прядь у виска!
Там, на снегу, за углом магазина —
Нет, не довесок, кусок граммов сто.
Воет метелица невыносимо.
Хлеб на снегу, а не видит никто.
Хлеб на снегу! Так во сне лишь бывает —
Знаешь, монеты на каждом шагу.
Вот он! Перчатку в снегу забывая,
В руки взяла и с находкой бегу.
Хлеб на снегу! Прикоснулась губами.
Это не хлеб. Это камень,
Только осколок от кирпича…
Ветер, мороз… А слеза горяча!
Старая книга
Утром он выпил пустого чаю.
Руки согрел о горячий никель,
Слабость и голод превозмогая,
Вышел купить старую книгу.
Весь он сквозит иконой Рублёва.
Кажется, палка сильней человека.
Вот постоял на углу Садовой.
Вот у Фонтанки новая веха.
Вкопаны в снег, неподвижны трамваи.
Замерли стрелки часов на Думе.
Книгу купил. Раскрыл, замирая.
Не дочитал страницу и умер.
Мужчина вдруг на улице упал,
Раскрытым ртом ловя дыханье полдня.
Не собралась вокруг него толпа,
Никто не подбежал к нему, не поднял.
Кто мог бы это сделать — все в цехах,
А кто на улице, сам еле ползает.
Лежит упавший. Слёзы на глазах,
Зовёт срывающимся тонким голосом.
И женщина, с ребёнком на руках,
Остановилась и присела возле.
В ней тоже ни кровинки. На висках
Седые пряди, и ресницы смёрзлись.
Привычным жестом обнажила грудь
И губы умиравшего прижала
К соску упругому. Дала глотнуть…
А рядом, в голубое одеяло
Завёрнутый, как в кокон, на снегу
Ребёнок ждал. Он долю отдал брату.
Забыть я этой встречи не могу…
О, женщина, гражданка Ленинграда!
Тишина стояла бы над городом,
Да в порту зенитки очень громки.
Из детсада в чашечке фарфоровой
Мальчик нёс сметану для сестрёнки.
Целых двести граммов! Это здорово
Мама и ему даст половину.
А в дороге он её не пробовал,
Даже варежку с руки не скинул.
Поскользнулся тут, в подъезде. Господи!
Чашка оземь, сразу раскололась.
И сметаны он наелся досыта,
Ползая по каменному полу.
А потом заплакал вдруг и выбежал.
Нет, домой нельзя ему вернуться!
… Мама и сестрёнка — обе выжили,
И осталось голубое блюдце…
О дворцы голубого стекла!
Сноп сиянья над белой Невою!
Струйка дыма, сверкая, ушла
В это небо, до слез голубое.
Под чехлом золотая стрела,
Ты осталась для нас золотою…
А над площадью ангел простер
Крес возмездья… О петли тропинок!
Крестный путь наш… Двоится линкор,
Он, как в зеркало, в лед опрокинут.
И стоит златоглавый собор,
Невидимку на купол надвинув.
Гул моторов. Четыре крыла.
Звезды. Свастика. Бой и погоня.
Я из проруби воду несла,
То и дело дыша на ладони…
Ты не знал, как вода тяжела,
Если краны не действуют в доме?
Сорок градусов. Месяц подряд.
Ни полена. Как прорубь, постели.
Стынут веки. В аду, говорят,
Очень жарко. Мы в ад бы хотели!
Чай в стакане под корочкой льда.
Белый мох на стене серебрится.
Холода. Холода. Холода.
Где же нашего горя граница?
Мы живем на суровой меже.
Сколько в сердце тревожной боли!
Догорели два тома. Уже?
И от скрипки футляр раскололи…
Ночь как пропасть. Коптилки глазок.
Груды тряпок и теплого хлама.
Тень качается… Хоть бы разок
Загорелась настольная лампа,
Чтоб на ярко-зеленом сукне
Разложить эту рукопись!.. Боже!
Это может быть только во сне?
И во сне эта ночь быть не может.
Скатертёрку постлала на стол,
На печурку поставила чайник.
Дочка, слышишь? — качается пол:
Нас бомбят… О слепое отчаянье!
Мы шаркали по снегу мётлами,
Сгребали лопатами сор.
Мы вышли почти полумертвыми
Убрать эту площадь и двор.
Сосульки сверкали радугой.
О первый блокадный апрель!
И я засмеялась от радости,
Очистив от снега панель,
Ступеньки знакомой лестницы
Посыпав желтым песком.
Нас пять с половиной месяцев
Зима одевала льдом.
Лопата о камень звякнула,
О рельсы забытых путей…
И я, не сдержавшись, заплакала —
Трамвай бы увидеть скорей!
Уже пригревает солнышко,
Весна к нам пришла наяву…
Я двадцать лопат, я сто ещё
Могла бы сбросить в Неву!
Звонки на набережной! Слышишь?
Трамвай пошёл, трамвай идет!
Подножка только стала выше,
А может быть, наоборот —
Не ты ли сам стал ниже ростом,
Ты, пассажир блокадных дней?
Войти в трамвай тебе не просто,
А выходить ещё трудней.
Тебя качает даже ветер
Над неоттаявшей Невой,
И ноги — слабые, как плети.
Такие у меня самой.
Трамвай идет! Какое счастье!
Ты едешь, ты купил билет!
А львы, раскрыв литые пасти,
С Невы трамваю смотрят вслед.
А враг ещё лютует пуще —
Бомбит, обстреливает враг…
Но всё-таки трамваи пущены,
Хотя в кольце наш Ленинград.
В лице у неё ни кровинки,
Распухшая и седая,
Она собирает травинки,
На корточки приседая.
Пришло золотистое лето
В сиянье летучего пуха.
Хотела спросить: — Сколько лет вам? —
Да знаю, сама я старуха.
Ложится, как пух, одуванчик
На серого камня траур.
А я и не знала раньше,
Что маринуют травы,
Что в этой обычной зелени
(Её и не замечали мы!)
От страшной цинги спасение
И сила первоначальная.
Присела с той женщиной рядом,
Травинки срывала жадно —
Цинготница Ленинграда
В железном кольце блокадном.
Был день наш ярок и высок,
Прозрачен летний зной.
Я из сосны варила сок
Для девочки больной.
О счастье хрупкое моё,
Дыши и оживай!
Густое хвойное питьё —
Целебный крепкий чай.
Обстрела не было в тот день,
А царство тишины.
Цвела душистая сирень,
Как в первый день войны.
Кони Клодта («На тревожном небосклоне…»)