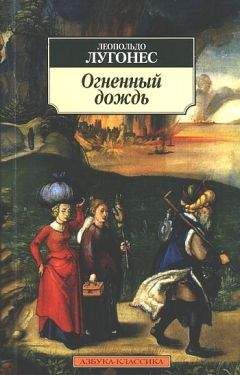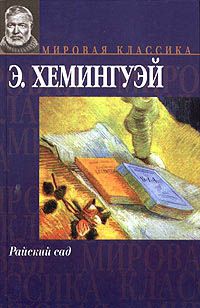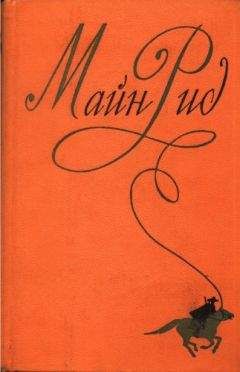БЛЕК ЭНД УАЙТ
Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес,—
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портово́й инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр па́рдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?
МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ
Превращусь
не в Толстого, так в толстого,—
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет…
Все меняется.
Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.
Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.
Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?
Я родился,
рос,
кормили соскою,—
жил,
работал,
стал староват…
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова
Пароход подошел,
завыл,
погудел —
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные —
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка́.
Вбежав
по лесенке хро́мой,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единым
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король —
Свифт.
Трубка
воняет,
в метр длиной.
Попробуй к такому —
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-лино́
поди,
разбери болезнь.
«Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял
капитан
под козырек,
и спущен Свифт —
сифилитик.
За первым классом
шел второй.
Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой,—
лез
и в ухо
и в глаз.
Врач смотрел,
губу своротив,
нос
под очками
взмо́рща.
Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
— Гоните обратно
трюму в щель!
Больные —
видно и так.
Грязный вид…
И вообще —
оспа не привита.—
У негра
виски́
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют —
и Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается
— у Кубы
губа не дура,—
жену его
прогнали с плантаций
за неотработку
натурой.
Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросся,
вбежав на насыпь!
Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.
Недели —
одни ананасы.
Опять
пароход
привинтило винтом.
Следующий —
через недели!
Как дождаться
с голодным ртом?
— Забыл,
разлюбил,
забросил Том!
С белой
рогожу
делит! —
Не заработать ей
и не скрасть.
Везде
полисмены под зонтиком.
А мистеру Свифту
последнюю страсть
раздула
эта экзотика.
Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца́.
Он тыкал
доллары
в руку, в лицо,
в голодные месяца.
Схватились
желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.
Она
решила отчетливо:
«No!»[2], —
и глухо сказала:
«Yes!»[3].
Уже
на дверь
плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
и ее
наверх
в номера
взвинтил
услужливый лифт.
Явился
Том
через два денька.
Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
и хлеб,
и деньга
и что не будет оспы.
Но день пришел,
и у кож
в темноте
узор непонятный впеплен.
И дети
у матери в животе
онемевали
и слепли.
Суставы ломая
день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то
у тел
половину отнял
и вытянул руки
для милостыни.
Внимание
к негру
стало особое.
Когда
собиралась па́ства,
морали
наглядное это пособие
показывал
постный пастор:
«Карает бог
и его
и ее
за то, что
водила гостей!»
И слазило
черного мяса гнилье
с гнилых
негритянских костей.
_____
В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так —
срисовал для видика.
Одни говорят —
«цивилизация»,
другие —
«колониальная политика».