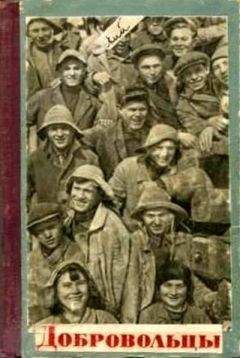Глава третья
УДАРНАЯ БРИГАДА
Всю тяжесть работы не сразу узнали, —
Такими мы были тогда молодыми, —
Но руки и ноги чугунными стали,
И, кажется, пуха с земли не подымешь.
Но каждый не мог себе даже представить,
Что в жизни дороги и легче бывают.
Мрачнели Уфимцев, и я, и Кайтанов,
Спецовки гремучие надевая.
И только Акишин смеялся нескладно,
Заметно храбрясь, суетился без толку.
А Слава сказал: «Порезвился — и ладно.
С весельем таким и заплакать недолго».
Рабочая ночь бесконечной казалась,
Как будто зимуем мы в Арктике где-то.
Над нами, не зная про нашу усталость,
Цвело и шумело московское лето.
И мы удивлялись тому, что девчата,
Как прежде смешливы, бодры и задорны.
И, вытерев пот на щеках рябоватых,
Кайтанов толкал вагонетку проворно.
А рядом Акишин влачился по шпалам,
Таким оказался настойчивым малым!
Мы сразу привыкли в труде торопиться,
Как бы возводя бастион перед боем,
Как будто должны перегнать заграницу
Сейчас же, вот здесь, где мы дышим и строим.
И дни проносились, звенели, летели,
Тягучей усталости не потакая,
Сперва пятидневной рабочей неделей,
Потом шестидневкой — была и такая.
По-прежнему в шахте мы с Лелей и Машей
Словесным турниром друг друга встречали:
Еще не настала для юности нашей
Пора беспокойной и светлой печали.
Кайтанов мечтал о бригаде ударной,
О славе рекордов, о громе победы.
С ним часто донбасские крепкие парни
Вели снисходительные беседы.
Он слушал их, не замечая насмешек,
И спрашивал, спрашивал, спрашивал снова.
Видать, по зубам ему крепкий орешек,
Насмешкой не сбить с панталыку такого!
Уфимцев под землю спускался иначе:
Играючи удалью, веря удаче,
Казался он бронзовым рядом с Алешей,
Сгибавшимся под непосильною ношей.
А я выходил…. Но не будем об этом.
Таким вдохновеньем дышали забои,
Что должен был стать непременно поэтом
Один из ребят под московской землею!
Кайтанов на шахте стал общим любимцем,
Когда комсомольскую создал бригаду.
Его ревновали и я, и Уфимцев
К улыбке парторга, к девичьему взгляду.
Ходил он размашисто. Эту походку
В толпе и сейчас отличу и узнаю.
С откатки он нас перевел на проходку —
Врубайся в породу, бригада сквозная!
Мы пики стальные вонзали с размаха
В девонскую глину. На досках учета,
Где только недавно ползла черепаха,
Взлетал высоко силуэт самолета,
И каждая смена друзьям приносила
Особую новость, открытье большое.
Цвела наша юность и полнилась силой —
С распахнутой курткой, с открытой душою.
Теперь, те далекие дни вспоминая,
Уйдя с головой в стихотворные строки,
Признаться по чести, я так и не знаю,
Что может быть в жизни чудеснее стройки,
Где сутки делились не ночью и ранью,
А первою сменой и сменой второю,
Где шахта была для друзей как дыханье
И даже важней, чем дыханье, порою.
На век неразлучных нас было четыре,
И столько нам счастья страна подарила,
И столько нам горя готовилось в мире!..
Давненько, в тридцатых годах это было.
Неслышно вползала в наш праздник весенний,
Меняя окраску змея подозрений:
Товарищ Оглотков в своем кабинете
Ходил и ходил, потирая ладони.
«Уж очень ретивы ударнички эти,
Такие в момент обойдут и обгонят!»
А мы пировали в ударной столовке
Заметьте: столовке, никак не столовой.
«Фартовый», «малина», «буза», и «шамовка» —
Казалось чудесным нам сорное слово.
При входе вручались нам вилка и ложка,
При выходе мы отдавали их снова.
Картошка с селедкой, селедка с картошкой —
В то время мы блюда не знали другого.
Но на небе утреннем нашем ни тучки.
Как все замечательно, ясно, красиво!
Хрустим мы червонцами первой получки
И пьем жигулевское светлое пиво.
Кайтанов подвыпивши, стал неуемным:
«Айда покупать друг для друга подарки!»
Детекторный тут же был куплен приемник.
И галстук. Один. Неказистый и жаркий.
(А галстуки были в то время не в моде,
В конфликте с юнгштурмовкой полувоенной.
Казались носители галстука вроде…
Кого? Ну хотя б самого Чемберлена.)
К себе в общежитье вернулись мы поздно,
Но все ж натянули антенну на крышу.
В прохладном бараке на Третьей Извозной
Всю землю ребята хотели услышать.
Глава четвертая
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
О дружбе писать я подробно не буду.
Кайтанов с Уфимцевым, я и Акишин —
Всегда вчетвером появляясь повсюду.
Никто не унижен, никто не возвышен.
В бараке своем за Москвою-рекою
Друг с другом никто никогда не ругался.
Но как-то под вечер случилось такое:
Кайтанов надел наш единственный галстук.
И зная, что сердце товарищей ранит,
Нарушив порядок в сложившемся быте,
Сказал нам: «Ребята, сегодня я занят».
«А как же кино?» «Мой билет продадите!»
Тут наш бригадир побелел как бумага.
(Насколько я помню, краснеть не умел он.)
Мы розно не делали раньше ни шага,
Не первый ли шаг без товарищей сделан?
И вот он уходит, боясь оглянуться.
Походкой, что кажется легче полета.
И песни у нас без него не поются,
И нам ни о чем говорить неохота.
А вечер чудесен. Застыла природа,
Полна равновесья, покоя и меры,
И только с химического завода
Опять дуновение с привкусом серы.
Но это ведь, может быть, горечь иная?
Не знаю, не знаю…
А с тихой Волхонки к Охотному ряду
В вечерних лучах поднимаются двое.
Торжественно, тихо идут они рядом
Вдоль новых заборов, разрытой Москвою.
На Леле короткое белое платье,
Стянул ее волосы красный платочек.
Обязан особо его описать я,
Ему уделяя хоть несколько строчек.
Он был подороже уборов богатых,
Приметой эпохи, лоскут кумачовый,
Короной рабфаковок и делегаток
И маленьким знаменем женщины новой.
А Коля шагает в отцовской кожанке
Из старой потертой рассохшейся кожи.
Ему, вероятно, в ней тесно и жарко,
Но в том никому он признаться не может.
Добавим наш галстук, повязанный крепко,
И запонку, в шею вонзившую жало,
И новую, с хлястиком кепку —
И будет портрет дорисован, пожалуй.
Свиданье! Конечно, то было свиданье!
Но встреча влюбленных в тридцатые годы
Немного боялась такого названья,
В нем видя явленье дворянской природы.
Идут они рядом дорогой знакомой.
Охотный гремит в неустанной работе —
Вот строится здание Совнаркома
И корпус гостиницы новой напротив.
А вот и копер — комсомольская шахта.
Не здесь ли с рассветом придется обоим
Спускаться под землю по лестницам шатким
И хлюпкой дорогой шагать по забоям?
Стоит на копре человек из фанеры
В спецовке широкой и шляпе огромной,
Исполненный кем-то в кубистской манере,
Неровно окрашенный краскою темной.
И двое глаза опустили стыдливо,
Как будто фанерная эта фигура
На них, оторвавшихся от коллектива,
Глядит с высоты подозрительно — хмуро.
«Кайтанов, поедем в Сокольники, что ли?»
«Пожалуй, немножечко далековато…»
«Поедем!» Глаза загорелись у Лели.
Трамвай № 6 атакуют ребята.
Не втиснуться — страшная давка в вагоне.
Кондукторша дергает дважды веревку.
Но эти прицепятся, эти догонят,
Для них не придется продлять остановку.
Тяжелою гроздью висят пассажиры,
И Коля почти обнимает подругу.
Ее закружило, она положила
На руку его свою твердую руку.
Когда б этот миг задержался навеки,
Она бы летела, летела, летела,
Стыдливо смежая счастливые веки,
К могучим плечам приникая несмело.
Летит наша Леля, душой замирая,
И так ей спокойно, и так ей тревожно!
Одна остановка, за нею вторая,
И жаль, что в вагон им протиснуться можно.
Сейчас он ей скажет то самое слово,
То слово, которое ново и вечно.
Но Коля Кайтанов, насупясь сурово,
Глядит на трамвай переполненный встречный.
Вагон, задыхаясь, проносится мимо,
И он говорит, наклоняясь над нею:
«Метро обязательно, необходимо
Построить в Москве, и как можно скорее».
Наверное, час продолжалась дорога.
Вокзалы их встретили шумом и звоном.
Вдоль старых домишек, мерцавших убого,
Они подъезжали к Сокольникам сонным.
И вот наконец они вышли на круге.
Кайтанов басил, наклоняясь к подруге.
В ответ лишь кивала счастливая Леля,
Казалось волшебным ей слово любое.
Меж ними возникло магнитное поле,
Как током весь мир, заряжая любовью.
Они проходили по узким аллеям,
Над озером черным стояли на склоне,
И он ее жесткую руку лелеял
В гранитной своей ладони.
Они заблудились меж просек оленьих,
Под сенью берез и весенних созвездий…
Влюбленные завтрашнего поколенья,
Как просто вам будет в Сокольники ездить!
И новая юность поверит едва ли,
Что папы и мамы здесь тоже бывали.
Им долго обратно шагать предстояло
Был Коля задумчив, и Леля устала.
Рассвет их настиг на безлюдной Мясницкой.
Прохлада, и небо совсем голубое,
И Леля призналась «Кайтанов, мне снится,
Что так вот всю жизнь мы шагаем с тобою…»
Ну что он подругу молчанием дразнит?
И вдруг, словно ливня веселые струи,
Как майская буря, как солнечный праздник,
Ее закружили его поцелуи.
Зеркальные стекла соседней витрины
Влюбленным устроили тут же смотрины,
И вслед улыбались им все постовые,
Хотя и милиция — люди живые.
И Леля шептала: «Не надо, не надо!..» —
Пока они шли до Охотного ряда.