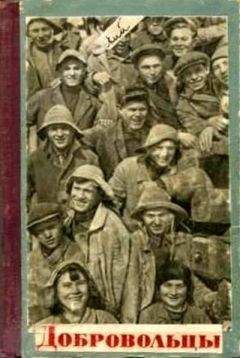Глава седьмая
ПЕРВАЯ СМЕРТЬ
Зачем это Маша торопит шофера,
Кусает какую-то горькую травку?
Уже половина девятого скоро,
Она подвела синеглазого Славку!
На длинной скамейке Тверского бульвара
Сидит он, куря ароматные «пушки»
А слева — влюбленная пара.
А справа задумчивый Пушкин.
Она не пришла, не придет — это ясно!
Так можно всю жизнь просидеть и напрасно.
А завтра мы в Тушино едем. И надо
Как следует выспаться. Тут не до шуток:
Пройдет испытание наша бригада
Не в недрах, а в небе — в прыжках с парашютом.
Уфимцев! Такие к тоске не способны,
Грустить не умеют, хотя молчаливы.
Могучие люди бывают беззлобны
И робостью внешней красивы.
Он выломал палочку и прилежно
Письмо начертил на дорожке песочной:
«Мария, люблю» осторожно и нежно
На грунте рассыпчатом, грунте непрочном.
Поднялся, ушел. И доехав до дома,
На койке скрипучей уснул он мгновенно.
Его не разбудишь, пожалуй, и громом.
(Еще мы громов не слыхали военных.)
А Маша примчалась к скамейке заветной
Лишь в 9-15. В смятенье, в печали.
Но слов никаких на песке не заметно:
Другие влюбленные их затоптали.
(Когда бы владел я волшебною силой,
Я все написал бы и сделал иначе:
Привел бы тебя на свидание с милой
И всем раздарил бы Любовь и Удачу.)
Как мучилась Маша одна до рассвета
Томилась на крайней скамейке садовой.
Сам Горький, пройди он дорожкою этой,
Узнать не сумел бы девчонки бедовой.
О чем она думала в час предрассветный,
Глаза заслоняя шершавой ладонью?
Конечно, не злым подозреньем, не сплетней
Терзалось сердечко ее молодое.
Ей виделось нашей судьбы продолженье:
Война громыхает над краем сожженным
И Славка-пилот улетает в сраженье,
А ей ожидать, как положено женам.
А вдруг на него налетели фашисты?!
Их много, а он одинешенек в тучах.
Машина пылает. Он прыгать решился
Вот прыгнет — и пулю вдогонку получит.
«Любимый! Не смей раскрывать парашюта,
Пока тебе неба и выдержки хватит!
Открой его в долю последней минуты,
Не то тебя ветер на крыльях подхватит.
Для пули фашистской ты станешь мишенью…
Чтоб не было в битве любимому тяжко
Пример показать приняла я решенье
И утром попробую прыгнуть с затяжкой»
И вот оно утро. Мы едем в трамвае.
И пригород быстро несется на встречу.
В открытые окна вагона врываясь,
Зеленые ветви ласкают нам плечи.
Навек неразлучных сегодня нас трое.
Акишина в нашей компании нету, —
Он дома остался, он очень расстроен:
Врачебному парень подвергся запрету.
Но если бы ты заглянул в мою душу
(Не выдай, не выдай, товарищ хороший)
То понял бы сразу: я попросту трушу
И даже завидовать начал Алеше.
Но дышит спокойствие рядом со мною,
Твердит, как урок, рассудительный Слава:
«Находится слева кольцо вытяжное,
Скоба запасная находится справа.
Вылазь на крыло! Как в Москву-реку с вышки,
Ныряй без раздумий — солдатиком, рыбкой.
Об этом еще не написаны книжки,
Мы первые будем», — добавил с улыбкой.
Нам все начинать выпадало на долю,
Недаром недавно звались «пионеры».
Эпоха такою была молодою,
Что в прошлом нечасто встречались примеры.
У края покатого летного поля
Пирует с подругами шумная Леля.
Консервы лежат на вчерашней газете
И скромные ломтики серого хлеба.
Вокруг на траве мы расселись, как дети,
Близ летного поля у самого неба.
Что с Машей? Она опустила ресницы
А Слава? Он смотрит в небесные дали
Как важно им было бы объясниться!
Зачем им друзья в это утро мешали?
Товарищи! Небо зовет голубое,
Нас ждут самолеты на поле зеленом,
И мы в парашютную входим гурьбою,
И каждый гордится комбинезоном.
Инструктор сверкает вставными зубами.
Страшней мне становится с каждой минутой.
Заводят У-2, и лиловое пламя
При выхлопе рвется из патрубков гнутых.
(У-2 не зовется еще «кукурузник»,
Еще не летит над сожженной травою,
Овеянный славою всесоюзной,
Всеевропейскою и мировою.)
Мне первому прыгать. Проклятый алфавит!
До буквы моей никого не нашлось.
Пилот преспокойно на взлетную правит,
Ангары и люди уносятся вкось,
И машет Уфимцев мне рыцарской крагой.
Куда-то — не в пятки ль? — уходит душа.
Я после скажу, что был полон отвагой,
Когда приземлюсь, парашютом шурша.
Одна лишь надежда, что красные кольца
Кругами спасательными на груди
Но ты в эти выси взлетел добровольцем
От имени тех, кто всегда впереди.
Бесстрашным зовется твое поколенье!
У-2 тарахтит и заходит на круг.
Что храбрость? Нелегкое преодоленье
Животного страха, дрожания рук.
Смелей комсомолец! Я все-таки трушу.
В лицо ударяет порыв ветровой
Пилот меня резко толкает. Я рушусь
Из облачка вниз головой.
Рывок! И за кратким мучительным громом,
Треща, раскрывается шелковый зонт,
Я тихо вращаюсь над аэродромом,
Как циркуль, где радиусом горизонт.
Кому рассказать, что я счастлив по-детски,
И небо чудесно, и ветер горяч?
Запеть бы! Но песни свои с Дунаевским
Еще только пишет Кумач.
И вот как плетеные белые вожжи,
Тяну на себя парашютные стропы,
Чьи длинные тени протянутся позже,
Как меридианы на карте Европы.
Распалась налитая воздухом чаша.
Беспомощный шелк на траве серебрится.
Второй — по алфавиту — прыгает Маша,
И взглядом ее провожает Уфимцев.
Дружочек наш милый! Так быстро взлетела,
Товарищам слова сказать не успела…
В решеньи своем никому не призналась.
Все выше ее голубая дорога.
Внизу на земле ее сердце осталось,
Бессонная ночь, и печаль и тревога.
Мотор выключает, командует летчик:
«Пошел!» Кувыркается в небе комочек.
Сейчас вытяжной парашютик заблещет,
Стремительный шелк за собой увлекая.
Комочек несется, мелькая зловеще;
Мгновенна как вечность, секунда такая.
«Успею! Успею! Не мне это больно —
Тому, кто в бою не уйдет от погони.
Земля уже близко. Однако довольно…»
Но тут ускользнуло кольцо из ладони.
И все… Только мчится и воет сиреной
Машина. Да белый халат на подножке,
И врач на одно опустился колено
Над чем-то ужасным на взлетной дорожке.
Под пологом шелковым, пологом белым
Не ты, наш дружок. То, что было тобою.
Не знает никто твоих помыслов смелых,
Рожденных в предчувствии первого боя.
Еще до Расковой, еще до Гастелло
Девчонка, десяток инструкций нарушив,
По мирному небу звездой пролетела,
Пылающий след прочертив в наших душах.
Отставить прыжки! Тишина неживая.
Кайтанов безмолвствует, с виду бесстрастный,
Но слезы, в рябинках его застревая,
На утреннем солнце сверкают и гаснут.
Носилки. И Леля с пустыми зрачками,
И Слава Уфимцев с лицом словно камень.
Он шепчет, пронизанный холодом лютым:
«Позвольте мне прыгнуть с ее парашютом…»
Созвездьями смутными ночь засветилась.
Безмолвная смена под землю спустилась.
Товарищи, где мы? В холодном забое.
Как Маша теперь, — глубоко под землею.
И мутные воды капризной Неглинки
Сочатся в породе, как будто слезинки.
У Славы увяла разбойная челка,
Лицо — как лоскут парашютного шелка.
Как вечность, идет за минутой минута,
И шепотом мы говорим почему-то,
Молчаньем стараясь утешить друг друга.
Вдруг около клети послышалась ругань,
Товарищ Оглотков явился в бригаду:
«Сегодня в забоях ни сладу, ни ладу!
А ну-ка, орлы, поднажмите! В работе,
В работе всегда утешенье найдете!..»
И дальше помчался по шпалам и лужам…
Да разве он может понять, как мы тужим!
Мы пики вонзили в девонскую глину,
Но, силы лишенные наполовину,
Остановились для перекура,
Шипение воздуха слушая хмуро.
И не заметили, как осторожно
Присел с нами рядышком дядя Сережа.
«Поплачьте, товарищи, станет вам легче.
От горя слеза лучше доктора лечит».
Нас горем пришибло. Нам кажется странным,
Что жизнь пробивается светом сквозь тьму.
Но время умеет залечивать раны,
И скажем за это спасибо ему.
За сменами дни, а за днями недели,
Бегут вагонетки по скользкой тропе,
Из штолен вылупливаются туннели,
А мы в них — как будто птенцы в скорлупе.
Одна за другой вагонетки с породой
Бегут и бегут на-гора без конца.
Все тверже, все крепче бетонные своды,
И жестче становятся крылья птенца.
Проходку ведем по далеким столетьям:
То речка возникнет, зловеще журча,
То мертвый тайник на пути своем встретим,
То череп, то цепь, то обломок меча.
Глубины московской земли непокорны,
Они отступать не желают, грозя
Обвалом, и взрывом, и гибелью черной.
Крепленья трещат, но сдаваться нельзя.
В забое четыре отчаянных друга.
Стучат молотки, словно сердце одно.
Порода навстречу вдруг выперла туго
И хлынула в лица. И стало темно.
Холодная жижа нам хлынула в лица,
И стало темно, и забой шевелится,
И слышно, как дышит подземное дно.
На нас навалилась тяжелая полночь.
Мы грудью своей зажимаем дыру
И слышим сквозь грохот, в холодном жару,
Как Леля вопит: «Погибаем! На помощь!»
От этого крика страшней почему-то.
Откуда здесь Леля, в кромешном аду?
Плывун нажимает упрямо и круто,
Еще полсекунды — и упаду.
Забой наполняется голосами,
А наш бригадир, все на свете кляня,
Хрипит: «Не волнуйтесь, мы справимся сами!»
И падает навзничь, сшибая меня.
Очнулись в здравпункте.
Как старый знакомый,
Термометры ставит нам доктор седой.
А мышцы разбиты горячей истомой,
И бронхи как будто налиты водой.
Наш добрый старик на минуточку вышел.
Тут, Славе шепнув: «Я пропал все равно», —
Встает, как лунатик, Алеша Акишин
И лезет на улицу через окно.
Собравши последние силы, он лезет,
Спускает ледащие ноги во двор.
Он прав! Пуще самых ужасных болезней
Я тоже боюсь докторов до сих пор.
Вновь доктор зашел, переменой испуган,
Термометры вынул и ставит опять.
«Не вижу я вашего юного друга,
Которого надо бы с шахты списать».
Кайтанов глядит на врача хитровато:
«Акишин? Он только что вышел куда-то!»
К нам шумы доносятся из коридора,
Шаги молотками стучатся в висок.
Обрывки взволнованного разговора
И дяди Сережи охрипший басок.
Мы слышим: «Их четверо было в забое».
«Все живы остались?»
«Как будто бы да».
«Поток плывуна заслонили собою.
Чуть-чуть не случилась большая беда.
Могли бы в Охотном дома обвалиться,
У старой земли гниловато нутро».
«Доверье бы к нам потеряла столица,
И так обыватель боится метро».
«А если бы хлынул плывун по туннелю,
Все заново рыть бы, наверно, пришлось».
«Тогда бы уж стройку не кончить в апреле».
«Ну, слава те господи, обошлось!»
«Так это ж герои!»
«Конечно, герои!
А сколько упорства и силы в таких!»
«Назавтра в „Ударнике Метростроя“
Должны напечатать заметку о них».
«К ним можно пройти?» — «Доктора запретили.
Ребятам изрядно помяло бока».
«А как там Акишин? Его отходили?
Он плох, вероятно?»
«Нет, дышит пока».
Шаги и слова осторожней и тише,
Но мы от сочувствия стали слабей.
А вам приходилось когда-нибудь слышать
За тонкой стеной разговор о себе?
Почувствуешь — сердце забилось и сжалось,
И разом нахлынут и гордость и жалость.
Но горе тому, кто услышит такое,
Что люди в лицо говорить не хотят.
И коль это правда, лишишься покоя.
Но что тут поделаешь? Сам виноват.
…Дощатые стены пропахли карболкой,
И дышится трудно, и хочется спать.
И доктор ворчит: «Тут одна комсомолка
Всю ночь к вам рвалась и стучится опять».
«Нельзя! Все начальство сейчас приходило
И то не пустили: врачи не велят».
«Пустите меня! Я жена бригадира,
А тот, что стихи сочиняет, мой брат».
Уфимцев ворочается на койке,
Он весь удивленье, святая душа:
«Ребята, я слышу там возгласы
Лельки! Ой, что она мелет? Не верьте ушам».
Кайтанов с улыбкою виноватой
Мне шепчет, пока сотрясается дверь:
«Не знаю, сумеешь ли стать ты ей братом,
Но мужем я, кажется, стану теперь».
Тут Лелька врывается: «Коленька, милый,
Ах, бедный мой, бедный! Спасибо, живой!»
И вдруг на колени она опустилась,
Зарылась в подушку к нему головой.
И, лоб его гладя, смеется и плачет,
А мы уже поняли, что это значит.
Кайтанов, поднявшись на локте упруго,
Еще побледнев, обращается к нам:
«Ребята! Знакомьтесь с моею супругой,
Прошу уважать! А любить буду сам»
Супруга товарища с явным презреньем
На койки, на братию нашу глядит
И ставит на тумбочку банку с вареньем
«Пайковое! Думаю, не повредит».
…Неделю мы так в лазарете лежали.
(Акишин в бараке спасался один.)
И Леля Теплова все ночи, в печали,
Следила, как дышит во сне бригадир.
Когда ж отправлялась она на работу
Иль шла получать нам лекарства и лед,
Кайтанов свою излагал нам заботу:
«Отцу напишу. Он, конечно, поймет.
Но как объясню я в бригаде ребятам,
Что вдруг из аварии вышел женатым?»