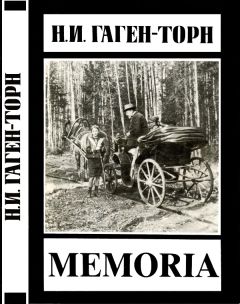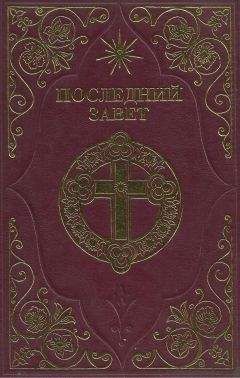Но даже ошибка Гитлера не научила Сталина, что жестокость не может обеспечить победу — после войны снова настала эпоха репрессий. Те, кто остался жив, отбыв срок в лагерях, — были схвачены снова.
В темниковских лагерях я додумывала».
В библиотеке отделения общественных наук АН СССР 30 декабря 1947 года мне была вынесена приказом благодарность и выдана премия «за организацию выставки по фольклористике во время этнографического совещания». Был утвержден план и принята к печати составленная мною этнографическая библиография на 12 печатных листов. Целый день сотрудники пожимали мне руку, радуясь, что можно, казалось, считать забытыми мои прошлые беды и их последствия: арест 1937 года, пребывание в колымских лагерях, тревоги восстановления. Я весело отшучивалась от поздравлений.
К концу дня, собрав карточки, я диктовала проспект утвержденной работы машинистке. Толстая большая женщина — заведующая специальным отделом — быстро вошла в машбюро и, проходя, сказала:
— Нина Ивановна, вас просит зайти заместитель директора по хозяйственной части, он у себя в кабинете. — И ушла.
— Подумаешь! Мог бы и сам к вам прийти! — рассердилась машинистка. — Еще вас приглашает! Давайте кончать — подождет.
Но у меня безотчетно екнуло и покатилось сердце.
— Нет, Мария Ивановна, уж я схожу!
Спустилась на первый этаж, постучала, вошла в кабинет. Зама не было. За его столом сидели двое.
— Нина Ивановна Гаген-Торн? — приподняв бумажку, спросил один.
— Да, я.
— Прочтите.
Опять екнуло в груди. Взяла бумажку: «Ордер на обыск и арест».
— Пройдем к вашему столу.
— Пойдем.
Когда человек поцарапает руку или ударится об угол — сразу становится больно. Если он сломает руку или пробьет череп — боль приходит не сразу. Это я уже знала. И знала, что при психических травмах — то же самое: неприятность сразу свербит, потрясение доходит до сознания не сразу. Сначала остается спокойствие и как бы нечувствительность. Только мелкая дрожь под коленками да автоматичность движений.
С такой автоматичностью подошла я к своему рабочему столу, открыла ящики. Оглянула комнату. Неподвижно застывшие лица. В глазах у женщин прячутся слезы.
— Вот библиографическая картотека. Ее, верно, оставят для пользования. Всего доброго, — поклонилась я им.
— Всего доброго, — глухо ответило несколько голосов.
Мы вышли с этими двумя в штатском в подъезд. Черная легковая машина ждала нас. Они посадили меня в середину, и каждый со своей стороны, задернул шторку окна. Настала темнота. Бегал лишь свет мелькающих фонарей. Но я и в темноте догадывалась, что машина остановится на Лубянке.
По колымским рассказам я знала, как выглядят Лубянские камеры — ведь это был второй тур: Ленинградская, Свердловская, Иркутская тюрьмы, Владивостокская пересылка — были позади.
Меня ввели в бокс — изолированную коробку без окна, где помещался короткий топчан и столик, оставлявший два шага до двери. Я села, стала обдумывать свое поведение. Решила: надо сделать вид, что от шока я стала заикаться, — тогда будет время обдумывать каждое слово ответа, а лишнее слово — лишняя цепь допросов.
Представился дом: там почти все готово к встрече Нового года — уже сделана бражка, кончены основные приготовления печений, салатов. Сегодня собирались переставлять мебель, чтобы в нашей маленькой комнатке разместить гостей — у нас собирались встречать Новый год друзья дочерей, молодежь. А придут совсем другие гости, все передвинут обыскивая.
Сколько прошло времени после того, как меня привезли?
Щелкнул замок.
— Пройдемте!
Стрелок провел меня на второй этаж, к следователю.
В кабинете толстый, кудрявый и потный майор посмотрел и сказал:
— Садитесь на стул. Там, в углу. Рассказывайте ваши антисоветские действия.
— У меня их не-не бы-было.
— Что же вас, зря в лагерях держали?
— Э-э-это бы-была ошибка, — отвечала я, придерживаясь метода тянуть и обдумывать.
— Вы что, заикаетесь?
— Э-это не… нервное.
— Так! Значит, по ошибке держали? И вы не питаете вражды к советской власти?
— О-оо-ошибки случаются, это не-е власть, а слу-у-чай.
Он стукнул кулаком по столу, выпучил глаза и закричал:
— Я тебе покажу случай! Б… Политическая проститутка! Туда твою…
Простая трехчленка без вариаций. Предназначенная бить громом и ударами кулака. Прослушала молча, пока он не задохнулся. Сказала спокойно, бросив прием заикания:
— Это бездарно. Я могу много лучше.
И загнула мат со всей виртуозностью, слышанной в лагерях: в бога, в рот, в нос, во все дырочки, со всеми покойниками, перевернутыми кишками и соответствующими рифмами. На пять минут, не переводя дыхания, крепкой, соленой блатной руганью. Он слушал с открытым ртом. Когда я остановилась, завопил:
— Это меня! Меня она материт?! Сейчас покажу начальнику отдела! — Привел второго, еще толще и рослее. — Вот, товарищ начальник, заключенная матерится.
— Просто учу, — сказала я, — если уж применять мат — надо уметь это делать! Шесть лет на Колыме я слушала виртуозный блатной мат, а майор хотел терроризировать меня простой трехчленкой. Это не квалифицированно.
Начальник отдела захохотал:
— Уведите ее в камеру.
Потом я узнала, что этот майор служил специально для того, чтобы ошеломлять перепуганных интеллигентов своим криком. Меня взяли в библиотеке Академии наук. Значит: пожилой, тихий научный работник. Надо оглушить. Но вышла производственная ошибка — не учли, что лагерница.
Мне дали другого следователя.
Стрелок из кабинета следователя повел коридорами. Спустились в первый этаж. Там встретила старуха в форме надзирательницы. Щелкнул замок. Ввели в безлюдную камеру. Под потолком горела бессонная лампочка. Осмотрелась. Тюремного благоустройства ленинградской Шпалерки не было. Там вместо двери — решетка, каменный пол; за железной ширмой — уборная; койки-полки, поднимающиеся при мытье, — все приспособлено. Тут, на Лубянке, явная кустарщина: паркетный пол узорами, к итальянскому окну обыкновенного дома приделана решетка, нет ни уборной, ни ведра-параши. Потом рассказывали москвичи, что это — часть здания бывшей лубянской гостиницы. В номере поставили железные кровати с соломенными тюфяками, в окна вделали решетки да поставили железные двери с окошком и глазком.
— Отбой был — ложитесь! — сказал в окно старушечий голос.
Ну что же? Надо отвернуть конец грязно-кирпичного одеяла, постелить носовой платок на ватный комок подушки — ложиться. Сняла ботинки, растянулась на тюфяке. Окошечко открылось:
— Снимите верхнюю одежду, руки держите поверх одеяла, прятать не полагается, — сказал тот же голос.
Значит, боятся, чтобы не перерезали вены, — догадалась я.
Это не назовешь сном, но у здорового, крепкого человека после потрясения, естественно, приходит необходимость забыться. И я забылась.
Лязгнул замок двери. Предстала смуглая хрупкая женщина, облизывая пересохший рот с крепкими белыми зубами. Черные волосы были заплетены в две тонкие косы (в тюрьме не разрешают шпилек), чулки висели (резинки снимают, а закручивать чулки она еще не умела).
— Здравствуйте! — сказала я, садясь на койке. — Вы не волнуйтесь, как-нибудь приспособимся.
Она подошла к моей койке, села на соседнюю.
— Вы давно здесь? — прошептала, оглядывая меня.
— Нет, только сегодня, но я не в первый раз. — В ее глазах появился страх. Я засмеялась. — По пятьдесят восьмой, как и вы. Только что взяли из библиотеки Академии наук. Разрешите представиться: кандидат исторических наук Нина Ивановна Гаген-Торн. С тридцать седьмого года шесть лет провела на Колыме, потом в Зауралье, вернулась в Москву, проработала год и опять попала… — Это привычный прием этнографа — не расспрашивай, а начинай рассказывать о себе, тогда создается доверие и желание у человека тоже говорить о себе.
— В чем вас обвиняют? — еще с трудом переводя дыхание, спросила она.
— Пока общие вопросы.
— А меня Бог знает о чем спрашивали: про комсомольских товарищей по Одессе! Я в Одессе университет кончала. Я думаю, меня скоро выпустят, — сказала она неуверенно, — ничего же ведь нет и никакого обвинения не предъявили.
— Я шесть лет просидела на Колыме и обвинения не получила.
Ее черные глаза округлились:
— Но меня в тридцать седьмом году допрашивали при партийной чистке, а не взяли, теперь опять о том же!
Она стала рассказывать о себе. Звали ее Аня Саландт, работала она экономистом на заводе. Муж — коммунист, погиб на фронте. С ней двое сыновей, а старая мать в Одессе. Трудно было в войну в эвакуации одной заботиться о детях, да и сейчас трудновато, времени для общественных дел не остается — все дети берут. Что теперь будет с ними? Куда денут мальчиков? Хоть бы к родным в Одессу!