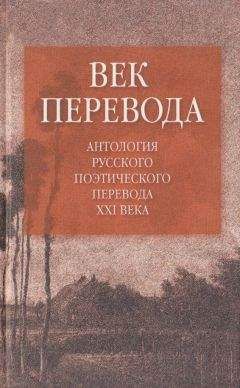ГЕННАДИЙ ЗЕЛЬДОВИЧ{70}
ФЕРНАНДО ПЕССОА{71} (1888 — 1935)
Твои стихи, блаженство напоказ,
Тебе слагать, печальному, легко ли?
Я тоже был в эпикурейской школе
И доброй волей ум терял не раз.
Я совершенства жаждал: всякий час
Пускался я на поиски — доколе
Не понял, что любая цель в расколе
С безмерностью, что нам открыта в нас.
С того и плачем, что узнать влекомы
Границу своего же идеала.
Есть берег морю, небу — окоемы,
А нет предела только у тоски
О чем-то без предела и начала,
В которой мы безмерно велики.
Недостижима и не понята
Она, не существующая въяве.
Еще грустнее и еще слащавей,
Когда земная манит красота.
И потому пускай в ее составе
Найдутся только общие места,
Дабы любой поверивший спроста
Узнал, что прикасается к отраве.
Лишь тот, кто чашу выпил понемногу
Или глотком — а лишь бы без остатка
Хотя и поздно, узнает дорогу.
Он чувствует, как тяжесть налегла
И как смотреться пагубно и гадко
В прозрачность бесполезного стекла.
Безумье или глупость: только так
Хоть каплю блага выманить у рока.
Не думать, не любить, не чаять срока
И не разуверяться что ни шаг.
Любую вещь, открытую для ока,
Приветствует за доброе дурак;
Свой миру соприродный полумрак
Юродец принимает без упрека.
Два зла на свете: правда и порыв.
Узнать их зло на свете путь единый —
И ту, и этот взглядом охватив:
Она ужасна, в нем же — пустота:
Не меньший ужас. Будто две долины
С боков неодолимого хребта.
Глубокий вздох, умчи меня в края,
Где ни чужбины, ни родного дома
И где существованье не влекомо
К потусторонней форме бытия;
Где чувствований мутная струя
Сподобится и формы, и объема
И где владыкой утвердится дрема,
Душевной жизни искру притая.
Умчи меня… Но что чужие сферы
И что края, незримые доселе,
Когда не приступ запоздалой веры,
Еще мечта, еще один порыв,
Как все мечты, летящий мимо цели,
Еще сильнее сердце искрутив?
И ум, и веру отодвинув прочь,
Воздержимся от скорби, от укора
И поцелуев — ибо очень скоро
Надвинется отсроченная ночь.
Не ощущай, но жизнь свою упрочь,
Отдав ее на милость благотвора
Названьем сон; без топи, косогора,
Подобный путь нетрудно превозмочь.
Гряди сюда с кифарами и маком,
Дурные сны развея сонным зельем, —
Гряди, Морфей, опутай души мраком
И в ту опустошенность уведи,
Где чувствуем, что грудь полна весельем,
Что ничего не чувствуем в груди.
О сон, о морок! Видно, оттого-то
Желаем преисполниться пустот,
Что сердце ждет — и понапрасну ждет,
И мало сил для горестного счета.
И что за сна мы жаждуем? — чьего-то:
Чужой мечты и сладостных тенет,
В которых затеряется, уснет
Вся бодрость, отворенная для гнета.
А морока забвенного хотят
Не иначе, как только под наплывом
Бессонных чувств — и гибнут, уступив им,
И остается тот последний ад,
Где в сумраке, тягучем и тоскливом,
Уже не порываются к порывам.
Усыпальница Христиана Розенкрейца
Еще не видев тело нашего мудрого Отца, мы отошли в сторону от алтаря и там смогли поднять тяжелую плиту желтого металла, за ней же покоилось лучезарное тело, целое и не тронутое тлением… в руке была маленькая пергаментная книга, писанная золотом и озаглавленная «Т.», которая, после Библии, составляет главное наше сокровище и не предается в руки непосвященных.
Fama Fraternitatis Roseae Crucis
Когда от жизни пробудит природа,
Себя поймем и вызнаем секрет
Паденья в Тело, этого ухода
Из духа в Ночь, из просветленья в бред, —
О сне земли, о свете небосвода
Прозрим ли Правду после стольких лет?
Увы! душе без проку и свобода,
И даже в Боге этой Правды нет.
И даже Бог явился Божьим сыном:
Святой Адам, он тоже грехопал.
Творитель наш и потому сродни нам,
Он создан был, а Правда отлетела.
Безмолвен Дух, как мировой Провал.
И чужд ей мир, который — Божье Тело.
Однако прежде прозвучало Слово,
Утраченное в тот же самый миг,
Когда из Тьмы Предвечный Луч возник,
Угаснувший средь хаоса ночного.
Но сознавая свой превратный лик,
Сама из Тьмы, Душа в себе готова
Узнать сиянье радостного зова,
Распятых Роз таинственный язык.
Хранители небесного порога,
Отправимся искать за гранью Бога
Секрет Магистра: сбросив забытье,
К самим себе очнувшиеся в Слове,
Очищены в неостудимой крови, —
Отсюда к Богу, льющему ее.
Однако здесь, бредя осиротело,
Себя сновидим, явь не обретем,
И если сердце Правду разглядело,
То Правда обращается в фантом.
Пустые тени, алчущие тела,
Его найдя, узнаем ли о том,
Пустоты стискивая то и дело
В объятье нашем призрачно-пустом?
Ужель Душа не отомкнет засовы,
Не станет знать, что дверь не заперта,
А только — выйти и пойти на зовы?
Немому и усопшему для плоти,
Но с Книгою в закрытом переплете,
Отцу Магистру явлены врата.
Кристиан Розенкрейц — легендарный основатель учения розенкрейцеров. Завещал вскрыть свою могилу много лет спустя после своей смерти. Основу учения розенкрейцеров составляло некое тайное знание; в частности, им приписывали способность всеведения, изобретение особого, выражающего суть вещей языка. Один из символов доктрины — черные розы на фоне андреевского креста.
ЮДЖИН ЛИ-ГАМИЛЬТОН{73} (1845–1907)
Белла Донна — Данте (1256)
Мне грезилась, что на спине орла
Парила я в полете небывалом
И вознеслась над гибельным провалом,
Где мертвые кишели без числа,
Как волны моря, что накрыла мгла
В предвестье бури смутным покрывалом,
Дыханье Бога налетало шквалом
И волны боли по нему гнала.
Взлетали в небо стоны несказанны,
Но взвился мой орел над морем бед
Туда, где небеса обетованны,
Господня града зрится силуэт
И не смолкают громкие осанны.
И в этот миг ты родился на свет.
Леонардо да Винчи о своих змеях (1480)
Люблю смотреть как ползают они.
Верней, струятся, словно кровь из раны.
Окраска их сулит глазам обманы,
Различная на солнце и в тени.
Живые арабески, в оны дни
Какие разбудили вас арканы?
Так водяные зыблются барханы
В пустынном море, гиблом искони.
Я голову Горгоны вижу ясно,
Как только просвистело лезвие
Меча, лицо — бледно, оно — ужасно,
А у висков — змеиное витье,
Гадюки изгибаются, напрасно
Пытаясь оторваться от нее.
Лука Синьорелли своему сыну