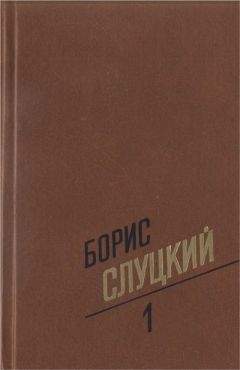ВЫБОР
Выбираешь, за кем на край света,
чья верней, справедливей стезя,
не затем, что не знаешь ответа,
а затем, что иначе нельзя.
Выбираешь, не требуя выгод,
не желая удобств или льгот,
словно ищешь единственный выход,
как находишь единственный вход.
Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.
С той поры, как согрела планету
совесть
и осветила мораль,
никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.
Он прислушивался и — решался,
долей именовал и судьбой.
Сам собой этот выбор свершался.
Слышишь, как?
Только так.
Сам собой.
Он дышал тяжело от шубы
на ватине
в кулак толщиной.
Не слова, а грузные шумы
заработали надо мной.
Задыхался, отдувался,
ласкам памяти предавался.
То ли юность свою, то ли зрелость
обнимал, целовал
и подробный отчет давал,
как ему писалось и пелось.
Батенька, говорил, голубок.
Был не то что широк — глубок.
Позабыл наши первые встречи,
говорил те же самые речи,
дал мне тот же самый концерт.
Как молоденький офицер,
что нет-нет взгляд на орден бросит
и шинель соответственно носит,
он распахивал передо мной
в самом деле большие удачи
и еще перед первой войной
разрешенные им задачи.
— Это слыхивал я от Стасова!
Но как будто из века Тассова,
в Ариостовой стороне
были Стасов и все с ним иже.
Нет, Бояновы дали — ближе
этой стасовской близи — мне!
С убежденностью старовера,
что за веру пойдет на костер,
проповедовал ясность и меру,
был умен, учен, остер,
был настойчив и убедителен,
заблужденья мои отменял,
я же вежлив был и бдителен,
убежденья свои охранял.
Он взирал, воспитанно-грозный,
замолкал и после — молчок.
Вот какой был старик!
Серьезный,
замечательный был старичок.
Получаю всю жизнь зарплату,
заработанное, зажитое.
Чаевых же не брал ни разу.
Если заработаю больше,
за работу больше заплатят.
Ни к чему мне чаевые.
Научился и чай и сахар
на свои покупать, на кровные
и без чаевых обходиться.
А когда не умел заработать
ни на чай, ни на сахар,
я без чаю сидел и без сахару,
но не брал чаевые.
Задачники без решебников
подготовляют волшебников.
Работа непосильная —
для самых лучших и честных,
а прочие — марш в посыльные,
в помощники, в порученцы!
О, бремя! Не только белых,
но также желтых и черных!
О, бремя самых смелых!
О, бремя самых упорных!
О, бремя любого народа
и всего людского рода!
Подставляем плечи,
взваливаем мешки.
А кто желает полегче —
марш в дураки, в остряки!
«Какие споры в эту зиму шли…»
Какие споры в эту зиму шли
во всех углах и закутах земли!
Что говорили, выпив на троих
и поправляя походя треух,
за столиками дорогих пивных
и попросту — за стойками пивнух!
Собрания гудели, как мотор
летательного
сверхаппарата,
и мысли выходили на простор
для стычки, сшибки, а не для парада.
На старенькой оси скрипя, сопя,
земля обдумывала самое себя.
«Руки опускаются по швам…»
Руки опускаются по швам.
После просто руки опускаются
и начальство во всю прыть пускается
выдавать положенное нам.
Не было особенного проку
ни со страху, ни с упреку.
А со штрафу было меньше толку,
чем, к примеру, с осознанья долга,
чем, к примеру, с личного примера
и с наглядного показа.
Смелости и подражают смело,
и таким приказам нет отказа.
Ордена, которые нам дали,
траты на металлы оправдали.
Выговоры, те, что нам влепили,
забавляли или озлобили.
Не шуми, начальник, не ори.
Толку нет от ругани и ражу.
По-хорошему поговори.
Я тебя уважу.
«Хорошо ушел. Не оглянулся…»
Хорошо ушел. Не оглянулся.
Даже головы не повернул.
Нет, не посмотрел, не обернулся,
словно молния сверкнул.
Сто часов теорию отхода
слушает в училищах пехота.
Ну, а как отчаливать простым
людям, в пиджаках, не в гимнастерках,
так, чтоб след действительно простыл,
но, чтобы, немея от восторга,
помнили!
Он — знал. Он — понимал.
Шапки не снимал.
Не махал рукой, не улыбался.
Ни минуточки не колебался.
Просто: повернулся и ушел.
Привычка привыкать,
терпеть терпенье,
терпеть, как за стеной
соседа терпим пенье,
терпеть, как терпим чад,
столовский запах тошный.
Стерпеть, смолчать,
конечно, можно.
Когда это войдет
в твои глубины
и в кровь твою войдет
вплоть до гемоглобина
и закипать душа
в ответ не станет,
привычка не спеша
натурой станет.
«День был душный, а тон был пошлый…»
День был душный, а тон был пошлый.
Нехороший был разговор.
Мне-то что? Я не здешний, а пришлый,
повернулся и вышел вон.
И какая-то полная смысла,
отшлифованная во рту,
брань рванулась за мной и повисла,
и повисла на вороту.
Подобрал ее, обдунул,
на ладони ее обсмотрел.
Одобрял, отрицал, обдумал
этот свой неточный портрет.
Словно в воду чего-то подли́ли,
каплю-капельку подлинки.
Словно плечи согнули мне.
Вспоминаю об этом дне.
«Говорить по имени, по отчеству…»
Говорить по имени, по отчеству
вам со мной, по-видимому, не хочется.
Хорошо. Зовите «гражданин».
Это разве мало? Это много.
Гражданин!
В понимании Рылеева,
а не управдома.
Я ль буду в роковое время
позорить гражданина сан и чин?
Хорошо. Зовите «гражданин».
Пророк — про Рок, меж тем как прогнозист —
про испещренный формулами лист,
но с вервием на шее те и эти
живут (пока живут) на белом свете.
Пророк — на славе. Прогнозист — на ставке.
Пророки — лава. Прогнозисты — танки.
Но оба задевают за живое
и отвечают только головою.
Пророки — в устарелых власяницах.
У прогнозистов — рукава лоснятся,
но сны им одинаковые снятся,
конец, финал — один и тот же мнится.
В отчете для инстанций директивных
вдруг ямбы просыпаются хромые,
и прогнозист времен радиоактивных
подписывается так: Иеремия.
«Снова заскрипела ось земная…»
Снова заскрипела ось земная.
Заскрипела, после — затряслась.
Почему — пока еще не знаю.
Я еще наузнаваюсь всласть.
Раз земля трясется под ногами,
значит, есть причины у земли.
Семь причин как будто у нагана
в барабан причинности вошли.
Снова чашки звякают о блюдца,
снова зуб на зуб не попадет.
А причины что? Они найдутся.
Та или другая — подойдет.
«Эта женщина молода. Просто она постарела…»