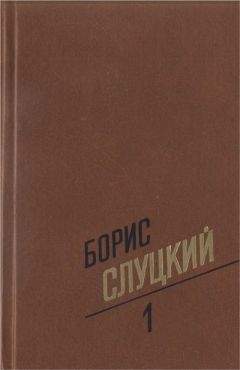ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и Случайные.
Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.
Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок
четвертом.
Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жёсток и краток отрывистый разговор.
Покатился гривенник по желобу,
по тому, откуда не сойти,
предопределенному, тяжелому
пути.
Он винты какие-то задел
и упал в подставленную сетку,
вытолкнув — таков его удел —
газетку.
Прочитав ее, по своему
желобу я покатился вяло
и не удивлялся ничему
нимало.
«Нет, не телефонный — колокольный звон…»
Нет, не телефонный — колокольный
звон
сопровождал меня
в многосуточной отлучке самовольной
из обычной злобы дня.
Был я ловким, молодым и сильным.
Шел я — только напролом.
Ангельским, а не автомобильным
сшибло, видимо, меня крылом.
— Солидно! — шептали губы белеющие. —
Лежу на койке и в чистом белье еще.
Две свежих простыни выдали мне,
и мишки в сосновом лесу на стене.
— Солидно! — все тише шептали губы. —
В таких больницах имеются клубы,
а в них, наверное, крутят кино,
а я в нем не был так давно.
С каким удовольствием он умирал:
удовлетворенный, обеспеченный.
Руками легко с себя обирал
прикосновенья смерти беспечной.
Улыбка, исполненная торжества!
О том же свидетельствовали слова,
произносимые с затруднением:
— Солидно! Ценно! — И с этим мненьем
не согласиться было стыдно.
Действительно: ценно, солидно.
Про черный день стоит беречь
не место, на кладбище приобретенное,
а эту отрывистую речь,
монотонную, веретённую.
И чтобы в самом деле кровать
со свежим бельем, что пуха легче,
и чтобы врач помог отрывать
смерть, вцепившуюся в плечи.
Прохладные стены старинных больниц
настолько похожи на крепостные,
что ты удивлен, не нашедши бойниц,
которые обороняют больные.
Высокие взрывы старинных дерев —
тенистых, как тинистых — густо-зеленых.
Операционных неистовый рев
и треп посетителей оживленных.
Там вмешивались то огнем, то ножом
в дела мои, там помогали натуре,
там газом каким-то меня поднадули,
там был забинтован я и обнажен.
Из корпуса в корпус переходя,
из здания в здание переезжая,
я жил,
долгим взглядом ту смерть провожая,
что шла стороной, наподобье дождя.
Обеда я ждал с нетерпением там
и шел по местам, когда крик «По местам!»
обход возвещал.
А после в минуту обед поглощал.
С большим напряженьем сосудов и жил
два года в старинных больницах я жил —
тогда еще новых не начали строить —
и выжил,
и вышел,
и стал планы строить:
как быть и что делать в обычных домах,
где все по-другому и меньше размах,
где стены всего в полтора кирпича,
где заняты люди не смертью с болезнью,
а тем, чтоб счастливей прожить и полезней,
где летом московским жара горяча.
В разгаре каленой июльской жары
иной раз припомнишь, какие пиры
больничным супцом
задавала прохлада,
и тут же подумаешь: лучше не надо.
Колокола звонили про дела:
дела — плохи, дела — плохи, дела — плохи —
унылые колокола
конца эпохи.
Понятней, чем на русском языке,
на медном языке обедни
они все громозвучней, все победней
раззванивали о беде, тоске.
Они предупредили старый мир
и точно вызвонили час и миг,
но старый мир не вслушался в сигналы,
внимания не обратил,
и вот его шугнули и согнали
с престолов
и изгнали из квартир.
Тот перезвон навек в ушах остался,
и, встретившись в Париже, на ходу,
кричат друг другу эмигранты-старцы:
колокола звонили про беду.
Все слова, что связаны с конями, —
марш на лингвистический махан!
А какие звуки там гоняли!
Целину какую плуг пахал!
Сколько было вложено людского
и в тяжелозвонкое: подкова,
и в быстропоспешное: бега!
Как была мила и дорога
и лексикографу и жокею
масть любая!
Много лет
ветерок забвенья, тихо вея,
заметает конский след.
Напоролась на колючку конница
в 914 году —
больше за пехотою не гонится,
саблями рубая на ходу.
Обогнали трактора конягу
в 930 навсегда
и обезлошадили — беда! —
Русь,
во зло, не знаю ли, во благо?
Как ушли с полей —
из словарей
медленно, но верно отступают
и в речушке Лете утопают
те, кто Волгу, Дон и Енисей
переплыли и не утонули,
отряхнулись, двинулись во тьму.
Не догнали пули,
а догнало слово: «Ни к чему!»
«Ни к чему!»
Кого обозначать
термином гнедой, буланый, пегий?
Вечность знать не знает привилегий.
Прав у времени нельзя качать.
«Ни к чему!»
И замирает топот
бьющих по забвению копыт.
Зверя с человеком
первый опыт
дружбы и союза —
позабыт.
По мартовскому гололеду,
топча пропесоченный лед,
сторожко, готовый к полету,
угрюмый испанец идет.
Проходит неслышною тенью
давнишних тридцатых годов
сторожко, готовый к паденью
на желтые льды городов.
Он, словно бы к солнцу подсолнух,
к Испании весь обращен.
О ней вспоминает спросонок
и с ней же свергается в сон.
Болезненно бледная смуглость
никак не сползает со щек.
Горючая, жалкая мудрость
в глазах не потухла еще.
Он ловит, как будто антенна,
незначащее ничего.
Простуда, наверно, ангина,
лет тридцать как мучит его.
Любые заметки в вечерке,
пустые намеки судеб
вонзились в него, как осколки,
важнейшие центры задев.
«Брата похоронила, мужа…»
Брата похоронила, мужа,
двух сыновей на погост сволокла.
В общем, к чему же, к чему же
и для чего же слова и дела.
Ясная в дереве, камне, моторе,
людям
инерция
ни для чего?
Разве не преимущество горе?
Только люди достойны его.
Все же встает в семь утра ежедневно,
на уплотненный автобус спешит,
вяло и злобно, тупо и нервно
в загсе бумажки свои ворошит,
в загсе бумажки свои подшивает,
переворашивает,
семьи чужие сшивает,
жизнь понемногу донашивает.