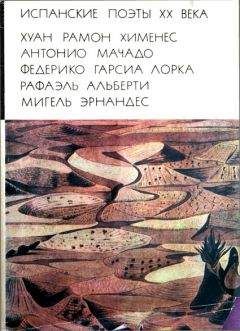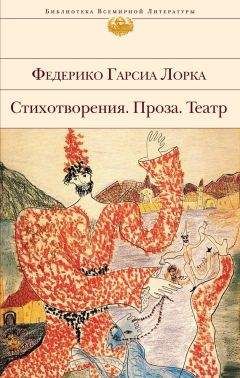«Звезды сражались…»
Звезды сражались
на полях небосклона.
Под черными шатрами
пересверк зеленый,
фейерверк червонный.
Звездное слово — лазоревое пламя,
земли касаясь,
рассыпалось звоном
над затишьем сонным.
* * *
«Если б только роз я жаждал!..»
Если б только роз я жаждал!..
Только звезд — и больше ничего!..
Но в явленье малом каждом
вижу то, что видно сквозь него.
(История Тересы… Девочки.)
Историю жизни моей
вам я хочу рассказать.
Эта жизнь была золотая, —
о радуга, в сердце моем разлитая! —
эта жизнь была золотая,
королевским дворцам под стать.
Историю жизни моей
расскажу я вам снова.
Она пылала кровью багровой, —
о радуга, в сердце вошедшая мне! —
она пылала кровью багровой,
как пылает мак по весне.
Историю жизни моей
я вам расскажу опять.
Эта жизнь серебром сверкала, —
о сердце, ставшее радугой небывалой! —
эта жизнь серебром сверкала,
прозрачной реке под стать.
Дети, которые пели весь день,
завтра песню опять запоют.
Но не вернется ушедший день.
Завтра, завтра — кричат упрямо, —
завтра сильней запахнет сирень,
завтра громче колокол грянет,
завтра под солнцем исчезнет тень.
Но не вернется ушедший день.
Это бегство спешное из сегодня
к новым рассветам, к иному огню,
к новым деревьям шажок — с дороги,
куда не поставишь опять ступню.
Бегство, бегство к смертному дню.
Другое солнце, другие воды,
лестниц иных иная ступень —
ибо все, что было вчера, нисходит
за умершим днем в могильную сень.
И не вернется ушедший день.
Дети, что бегали целый день,
завтра снова начнут беготню.
Бегство, бегство к смертному дню.
* * *
«Щемящая боль забвенья!..»
Лоб, огромная кладовая,
где собраны памяти звенья,
где навсегда остались
исчезающие мгновенья.
Как удивительна вечность
вещей преходящих, случайных:
и радость не иссякает, и горе
всегда изначально…
Все рассветы и все закаты.
Все прощанья всех расставаний вечерних;
всех полночей все звездопады;
всех возрастов женщины,
устремившие к солнцу взгляды…
* * *
«Божественно чистой росой окантован…»
Божественно чистой росой окантован,
влажным забвением скован, перед рассветом
городишко кажется средневековым.
Но солнце ему возвращает снова
современной эпохи приметы.
* * *
«Отблески стекол цветных на мраморе пляшут…»
Отблески стекол цветных на мраморе пляшут;
в пространстве желтом, сиреневом и зеленом
жены нагие по лепесткам ромашек
ворожат мечтательно и напряженно.
Над звонкой оградой голубиная стая,
лазурный фонтан смеется тонко и длинно,
нагота блистает белизной горностая,
шелковистой мальвой и золотым муслином.
Женщины смотрят магически и лениво
и в теплые краски погружаются тихо;
и мелодия солнца звучит лейтмотивом
в этой певучей и пестрой неразберихе.
* * *
«Быть сильным или слабым? Что же…»
Быть сильным или слабым? Что же
решить — быть слабым или сильным?
Стать наблюдателем сторонним?..
Ловцом выносливым, двужильным?..
Смотреть на дождик над водой,
на стаи облаков бесплодных
и слушать, как растут деревья,
как плещется фонтан холодный…
Иль не глядеть вокруг, не слышать…
И только труд, лишь труд извечный…
Тебя он сделает незрячим,
глухим… каким еще?.. Конечно —
немым; немым! — немым и грустным,
всегда печальным, безъязыким,
как придорожный тихий камень,
иль как младенец, спящий в зыбке…
Контраст моей печали —
незыблемо-прекрасный вечер…
И все, что чувства отвергали,
когда я сильным становился,
приходит вечером из дальней дали…
* * *
«У хрупкого хрусткого ветра…»
У хрупкого хрусткого ветра
цветочный и солнечный вкус…
Какой удивительно грустный
ветра и сердца союз!
Уже начинается осень;
лирический бард — соловей —
оплакал багряные листья
средь колких, как солнце, ветвей.
Дождит временами. Все чаще —
все слаще! — любовный озноб,
и женщины призрак знобящий
не выгнать из яви и снов.
И плоть уже стала не плотью:
она, как морозный цветок,
при вспышках желанья
теряет за лепестком лепесток.
Твои глаза, они взирали
в мои глаза. И разливали
черноту… Как в августе жасмин,
сверкнули звезды черными кострами,
и в беспредельной глубине Севильи
оделась крепом траурным Хиральда{20}.
От этой яркой тени
я ослеп! Спокойные глаза играли
чернотой и ласково и дерзко,
и затмевали свет, и медленно стирали
все прочие цвета!
Во имя этих глаз —
да будет черной чистота!
Из книги
«НОВАЯ АНТОЛОГИЯ»
Перевод Н. Горской
Известь и солнце —
синь жестяная!
До яркого блеска
асфальт надраен!
Насквозь продута
прохладным бризом
золотых просторов
легкая призма.
Воспоминаний сколько!
И сколько красок!
Красота в распаде,
как ты прекрасна!
Патрульный катер море перевернуло,
рухнуло градом крупным, свинцом округлым,
темноту и свет на волне крутануло
и над нами хребтину выгнуло круто.
Был ли Кадис на свете?.. Казалось, две бездны —
алчущая морская с бегучей небесной —
схлестнулись в единоборстве мгновенном
и гневно рвались друг у друга из плена.
От ракушек и скал меня оторвали,
прочь я поплелся, школьник в унылой форме.
…За фабрикой газа, в черном стенном провале,
звучали глухие отзвуки шторма…
В грозовой круговерти
заперли двери.
В стремнине пространства,
между двумя громами,
с наковальни заката
стрелы брызгали веерами,
и молния отверзала
врата безграничной драме.
В грозовой круговерти
заперли двери.
Гасли, как свечи, лица,
бледней зеленой оливы
(ибо в щели сочился
ужас великий,
апокалипсической
тучей разлитый).
В грозовой круговерти
заперли двери.
Но в порыве юном —
в наготе своей лунной —
ты шла через бурю
по бликам латунным
(какая архитектура!),
по плоским крышам-лагунам.
В грозовой круговерти
заперли двери.