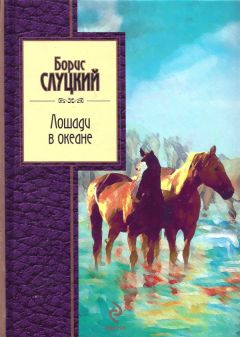Прозаики
Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебеденко[42]
Когда русская проза пошла в лагеря —
в землекопы,
а кто половчей — в лекаря,
в дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
в парикмахеры
или в шоферы, —
вы немедля забыли свое ремесло:
прозой разве утешишься в горе?
Словно утлые щепки,
вас влекло и несло,
вас качало поэзии море.
По утрам, до поверки, смирны и тихи,
вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
вы лепили стихи.
Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
то стремился излиться в тоске.
Ямб рождался из мерного боя лопат,
словно уголь он в шахтах копался,
точно так же на фронте из шага солдат
он рождался и в строфы слагался.
А хорей вам за пайку заказывал вор,
чтобы песня была потягучей,
чтобы длинной была, как ночной разговор,
как Печора и Лена — текучей.
А поэты вам в этом помочь не могли,
потому что поэты до шахт не дошли.
«Начинается длинная, как мировая война…»
Начинается длинная, как мировая война,
начинается гордая, как лебединая стая,
начинается темная, словно кхмерские
письмена,
как письмо от родителей, ясная и простая
деятельность.
В школе это не учат,
в книгах об этом не пишут,
этим только мучат,
этим только дышат —
стихами.
Гул, возникший в двенадцать и даже
в одиннадцать лет,
не стихает, не смолкает, не умолкает.
Ты — актер. На тебя взят бессрочный
билет.
Публика целую жизнь не отпускает
со сцены.
Ты — строитель. Ты выстроишь —
люди живут
и клянут, обнаружив твои недоделки.
Ты — шарманщик. Из окон тебя позовут —
и крути и крутись, словно рыжая белка
в колесе.
Из профессии этой, как с должности
экзотических королей,
много десятилетий не уходили живыми.
Ты — труба, и судьба исполняет одну из
важнейших ролей —
на тебе. На важнейших событиях ты
ставишь фамилию, имя,
а потом тебя забывают.
— Что вы, звезды?
— Мы просто светим.
— Для чего?
— Нам просто светло. —
Удрученный ответом этим,
самочувствую тяжело.
Я свое свечение слабое
обусловливал
то ли славою,
то ли тем, что приказано мне,
то ли тем, что нужно стране.
Оказалось, что можно просто
делать так, как делают звезды:
излучать без претензий свет.
Цели нет и смысла нет.
Нету смысла и нету цели,
да и светишь ты еле-еле,
озаряя полметра пути.
Так что не трепись, а свети.
«Лакирую действительность…»
Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!
Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу…
Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я еще без поправок
Эту книгу издам!
Местный сумасшедший, раза два
чуть было не сжегший всю деревню,
пел «Катюшу», все ее слова
выводил в каком-то сладком рвенье.
Выходил и песню выводил,
верно выводил, хотя и слабо,
и, когда он мимо проходил,
понимал я, что такое слава.
Солон, сладок, густ ее раствор.
Это — оборот, в язык вошедший,
это — деревенский сумасшедший,
выходящий с песнею во двор.
На площади Маяковского
уже стоял Маяковский —
не бронзовый,
а фанерный,
еще силуэт,
не памятник.
Все памятники — символы.
Все монументы — фантомы.
Фанерные монументы
четырежды символичны.
Поставленный для прикидки
к городу и к миру,
он подлежал замене.
Ему отмерили веку
недели, а не столетья.
Но два измеренья фанеры,
дрожащие от ветра,
были странно прекрасны
в городе трех измерений.
Два измеренья фанеры
без третьего измеренья
обладали четвертым —
неоспоримым величьем.
Ночами его освещали
большими прожекторами,
и скульпторы меряли тени,
отброшенные монументом.
Массивность и бестелесность,
громадность и фантомность —
такое стоило крюку.
Я часто давал его ночью.
Быть может, впервые поэту
поставили то, что надо,
а кроме силуэта,
нам ничего не надо.
А кроме тени черной,
уложенной на асфальте,
не ставьте ничего нам,
нам ничего не ставьте.
Нас было десять поэтов,
не уважавших друг друга,
но жавших друг другу руки.
Мы были в командировке
в Италии. Нас таскали
по Умбрии и Тоскане
на митинги и приемы.
В унылой спешке банкетов
мы жили — десяти поэтов.
А я был всех моложе,
и долго жил за границей
и знал, где что хранится,
в котором городе — площадь,
и башня в которой Пизе,
а также в которой мызе
отсиживался Гарибальди,
и где какая картина,
и то, что Нерон — скотина.
Старинная тарахтелка —
автобус, возивший группу,
но гиды веско и грубо,
и безапелляционно
кричали термины славы.
Так было до Рубикона.
А Рубикон — речонка
с довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдем пешочком,
как некогда Юлий Цезарь, —
сказал я своим коллегам,
от спеси и пота — пегим.
Оставили машину,
шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,
и любопытный Мартынов,
пошире глаза раздвинув,
присматривался к Рубикону,
и грустный, сонный Твардовский
унылую думу думал,
что вот Рубикон — таковский,
а все-таки много лучше
Москва-река или Припять
и очень хочется выпить.
И жадное любопытство
лучилось из глаз Смирнова,
что вот они снова, снова
ведут разговор о власти,
что цезарей и сенаты
теперь вспоминать не надо.
А Рубикон струился,
как в первом до Р. Х. веке,
журча, как соловейка.
И вот, вспоминая каждый
про личные рубиконы,
про преступленья закона,
ритмические нарушения,
внезапные находки
и правды обнаружение,
мы перешли речонку,
что бормотала кротко
и в то же время звонко.
(Очерк)
Асеев пишет совсем неплохие,
довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.
С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?
Они — пустяки!
Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
и боли его не томят, не злят,
и взгляд становится тихим, ясным,
жестоким, точным — снайперский
взгляд.
И словно весною — щепка на щепку —
рифма лезет на рифму цепко.
И вдруг серебреет его пожелтелая
семидесятилетняя седина,
и кружка поэзии, полная, целая,
сразу выхлестывается — до дна.
И все повадки —
пенсионера,
и все поведение —
старика
становятся поступью пионера,
которая, как известно, легка.
И строфы равняются — рота к роте,
и свищут, словно в лесу соловьи,
и все это пишется на обороте
отложенной почему-то статьи.