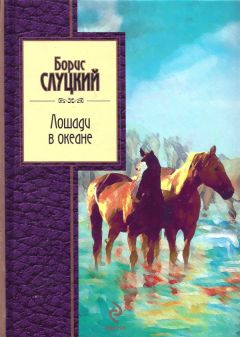«Было много жалости и горечи…»
Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.
Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.
Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.
Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.
Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,
что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение[47].
Заболоцкий спит в итальянской гостинице
У пригласивших было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умаявшись в банкетах и хожденьях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, ностальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.
Но Заболоцкий спал. Его черты
темнила ночь Италии. Белила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звезд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шепоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,
под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы[48] от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслыханной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплет.
Приступим к нашим ямбам,
уложенным в квадратики,
придуманным, быть может,
еще в начале Аттики,
мужские рифмы с женскими
перемежать начнем,
весы и качели — качнем?
Качнем!
Все, что до нас придумано,
все, что за нас придумано,
продумано прекрасно,
менять — напрасно.
Прибавим, если сможем,
хоть что-нибудь свое,
а убавлять отложим,
без ямбов — не житье.
Нет, не житье без ямбов,
стариннейших иамбов,
и я не пожалею
для ямбов дифирамбов.
От шага ли, от взмаха?
Откуль они?
Не вем.
Не дам я с ними маху,
вовек не надоем.
От выдоха ли, вдоха?
От маятника, что ли?
Но только с ямбом воля,
как будто в Диком Поле,
когда, до капли вылит,
дождем с небес лечу, лечу,
лечу навылет
и знаю, что хочу.
Дамоклов меч
разрубит узел Гордиев[49],
расклюет Прометея воронье,
а мы-то что?
А мы не гордые.
Мы просто дело делаем свое.
А станет мифом или же сказаньем,
достанет наша слава до небес —
мы по своим Рязаням и Казаням
не слишком проявляем интерес.
Но «выхожу один я на дорогу»
в Сараеве, в далекой стороне,
за тыщу верст от отчего порога
мне пел босняк,
и было сладко мне.
Мало я ходил по костелам.
Много я ходил по костям.
Слишком долго я был веселым.
Упрощал, а не обострял.
Между тем мой однофамилец,
бывший польский поэт Арнольд
Слуцкий[51]
вместе с женою смылись
за границу из Польши родной.
Бывший польский подпольщик,
бывший
польской армии офицер,
удостоенный премии высшей,
образец, эталон, пример —
двум богам он долго молился,
двум заветам внимал равно.
Но не выдержал Слуцкий. Смылся.
Это было довольно давно.
А совсем недавно варшавский
ксендз
и тамошний старожил
по фамилии пан Твардовский
по Арнольду мессу служил.
Мало было во мне интересу
к ритуалу. Я жил на бегу.
Описать эту странную мессу
и хочу я и не могу.
Говорят, хорошие вирши
пан Твардовский слагал в тиши.
Польской славе, беглой и бывшей,
мессу он сложил от души.
Что-то есть в поляках такое!
Кто с отчаянья двинул в бега,
кто, судьбу свою упокоя,
пану Богу теперь слуга.
Бог — большой, как медвежья полость,
прикрывает размахом крыл
все, что надо, — доблесть и подлость,
а сейчас — Арнольда прикрыл.
Простираю к вечности руки,
и просимое мне дают.
Из Варшавы доносятся звуки:
по Арнольду мессу поют!
«Стихи, что с детства я на память знаю…»
Стихи,
что с детства я на память знаю,
важней крови,
той, что во мне течет.
Я не скажу, что кровь не в счет:
она своя, не привозная, —
но — обновляется, примерно раз в семь
лет,
и, бают, вся уходит, до кровинки.
А Пушкин — ежедневная новинка.
Но он — один. Другого нет.
Это Коля Глазков. Это Коля[52],
шумный, как перемена в школе,
тихий, как контрольная в классе,
к детской
принадлежащий
расе.
Это Коля, брошенный нами
в час поспешнейшего отъезда
из страны, над которой знамя
развевается
нашего детства.
Детство, отрочество, юность —
всю трилогию Льва Толстого,
что ни вспомню, куда ни сунусь,
вижу Колю снова и снова.
Отвезли от него эшелоны,
роты маршевые
отмаршировали.
Все мы — перевалили словно.
Он остался на перевале.
Он состарился, обородател,
свой тук-тук долдонит, как дятел,
только слышат его едва ли.
Он остался на перевале.
Кто спустился к большим успехам,
а кого — поминай как звали!
Только он никуда не съехал.
Он остался на перевале.
Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
а всего мы не утянули.
Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидит.
Я вернулся из странствия, дальнего столь,
что протерся на кровлях отечества толь.
Что там толь?
И железо истлело,
и солому корова изъела.
Я вернулся на родину и не звоню,
как вы жили, Содом и Гоморра?
А бывало, набатец стабильный на дню —
разговоры да переговоры.
А бывало, по сто номеров набирал,
чтоб услышать одну полуфразу,
и газеты раскладывал по номерам
и читал за два месяца сразу.
Как понятие новости сузилось! Ритм
как замедлился жизни и быта!
Как немного теперь телефон говорит!
Как надежно газета забыта!
Пушкин с Гоголем остаются одни,
и читаю по школьной программе.
В зимней, новеньким инеем тронутой
раме —
не фонарные, звездные
блещут огни.