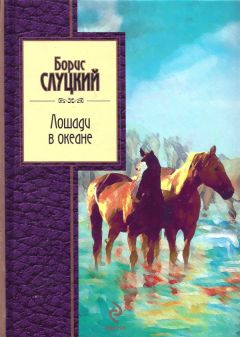«Государи должны государить…»
Государи должны государить,
государство должно есть и пить,
и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.
Понимаю, вхожу в положенье,
и хотя я и трижды неправ,
но как личное пораженье
принимаю списки расправ.
«Пристальность пытливую не пряча…»
Пристальность пытливую не пряча,
с диким любопытством посмотрел
на меня
угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.
Кто я — дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
или переправлю под прицел?
Кто я — злейший враг иль первый друг
для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
то ли обойдется вдруг?
Говорит какие-то слова
и в глаза мне смотрит,
взгляд мой ловит,
смотрит так, что в сердце ломит
и кружится голова.
Говорю какие-то слова
и гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
дознаваться или же расследовать.
«Я судил людей и знаю точно…»
Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно[54], —
только погодя бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.
Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей… Каким судьей? Футбольным:
быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то и во сне кричать не станут.
Ну а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.
Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я неправ.
Пускай меня поправят.
«За три факта, за три анекдота…»
За три факта, за три анекдота
вынут пулеметчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.
За три анекдота, за три факта
с примененьем разума и такта,
с примененьем чувства и закона
уберут его из батальона.
За три анекдота, факта за три
никогда ему не видеть завтра.
Он теперь не сеет и не пашет,
анекдот четвертый не расскажет.
Я когда-то думал все уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отвадить
за три факта человека гробить.
Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
чтобы меньше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота
со свету сживали.
Все царевичи в сказках укрылись,
ускакали на резвых конях,
унеслись у Жар-птицы на крыльях,
жрут в Париже прозрачный коньяк.
Все царевичи признаны школой,
переизданы в красках давно.
Ты был самый неловкий и квелый,
а таким ускользнуть не дано.
С малолетства тяжко болея,
ты династии рушил дела.
Революцию гемофилия
приближала, как только могла.
Хоть за это должна была льгота
хоть какая тебя найти,
когда шли к тебе с черного хода,
сапогами гремя по пути.
Все царевичи пополуночи
по Парижу, все по Полям
Елисейским — гордые юноши.
Кровь! Притом с молоком пополам.
Кровь с одной лишь кровью мешая,
жарким, шумным дыханьем дыша,
Революция — ты Большая.
Ты для маленьких — нехороша.
Хоть за это, хоть за это,
если не перемена в судьбе,
от какого-нибудь поэта
полагался стишок тебе.
«Маловато думал я о Боге…»
Маловато думал я о Боге,
видно, он не надобился мне
ни в миру, ни на войне
и ни дома, ни в дороге.
Иногда он молнией сверкал,
иногда он грохотал прибоем,
я к нему — не призывал.
Нам обоим
это было не с руки.
Бог мне как-то не давался в руки.
Думалось: пусть старики
и старухи
молятся ему.
Мне покуда ни к чему.
Он же свысока глядел
на плоды усилий всех отчаянных.
Без меня ему хватало дел —
и очередных и чрезвычайных.
Много дел прощал, казнил,
слушал истовый прибой оваций.
Видно, так и разминемся с ним,
так и не придется стыковаться.
«Уменья нет сослаться на болезнь…»
Уменья нет сослаться на болезнь,
таланту нет не оказаться дома[55].
Приходится, перекрестившись, лезть
в такую грязь, где не бывать другому.
Как ни посмотришь, сказано умно —
ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья Господа-то Бога?
Господь, он скажет: «Все равно говно!»
Господь не любит умных и ученых,
предпочитает тихих дураков,
не уважает новообращенных
и с любопытством чтит еретиков.
«Совесть ночью, во время бессонницы…»
Совесть ночью, во время бессонницы,
несомненно, изобретена,
потому что с собой поссориться
можно только в ночи без сна.
Потому что ломается спица
у той пряхи, что вяжет судьбу,
потому что, когда не спится,
и в душе находишь судью.
Чего боится человек,
прошедший тюрьмы и окопы,
носивший ружья и оковы,
видавший
новой бомбы
сверк?
Он, купанный во ста кровях,
не понимает слова «страх».
Да, он прошел сквозь сто грязей,
в глазах ирония змеится,
зато презрения друзей
он, как и век назад, боится.
«Где-то струсил. Когда — не помню…»
Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет.
А в Японии, на Ниппоне,
в этом случае бьют в живот.
Бьют в себя мечами короткими,
проявляя покорность судьбе,
не прощают, что были робкими,
никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай,
как его там ни назови,
солью самою злой, колючей
оседает в моей крови.
Солит мысли мои, поступки,
вместе, рядом ест и пьет,
и подрагивает, и постукивает,
и покоя мне не дает.
«А я не отвернулся от народа…»
А я не отвернулся от народа,
с которым вместе
голодал и стыл.
Ругал баланду,
обсуждал природу,
хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.
Когда
годами делишь котелок
и вытираешь, а не моешь ложку —
не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Разве так, немножко.
Не льстить ему,
не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
и стал ему родным.
У меня еще дед был учителем русского
языка!
В ожидании верных ответов
поднимая указку, что была нелегка,
он учил многих будущих дедов.
Борода его, благоухавшая чистотой,
и повадки, исполненные достоинством и
простотой,
и уверенность в том, что Толстой,
Лев, конечно
(он меньше ценил Алексея),
больше Бога!
Разумное, доброе, вечное сея,
прожил долгую жизнь,
в кресле после уроков заснул навсегда.
От труда до труда
пролегала прямая дорога.
Родословие не пустые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
через деда.
«Господи, Федор Михалыч…»