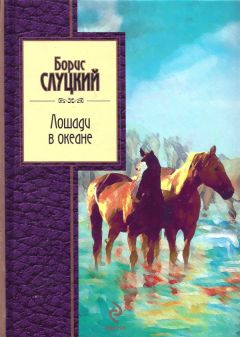«Господи, Федор Михалыч…»
Господи, Федор Михалыч,
я ошибался, грешил.
Грешен я самую малость,
но повиниться решил.
Господи, Лев Николаич,
нищ и бессовестен я.
Мне только радости — славить
блеск твоего бытия.
Боже, Владимир Владимыч,
я отвратительней всех.
Словом скажу твоим: «Вымучь!»
Вынь из меня этот грех!
Трудно мне с вами и не о чем.
Строгие вы господа.
Вот с Александром Сергеичем
проще и грех не беда.
«Романы из школьной программы…»
Романы из школьной программы,
на ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
за эти романы прощу.
Не курский, не псковский, не тульский,
не лезущий в вашу родню,
ваш пламень — неяркий и тусклый —
я все-таки в сердце храню.
Не молью побитая совесть,
а Пушкина твердая повесть
и Чехова честный рассказ
меня удержали не раз.
А если я струсил и сдался,
а если пошел на обман,
я, значит, не крепко держался
за старый и добрый роман.
Вы родина самым безродным,
вы самым бездомным нора,
и вашим листкам благородным
кричу троекратно «ура!».
С пролога и до эпилога
вы мне и нора и берлога,
и кроме старинных томов
иных мне не надо домов.
«На русскую землю права мои невелики…»
На русскую землю права мои невелики.
Но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
А каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
все роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождем золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу.
Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?
Я лечу, лечу со стула.
Я лечу,
лечу,
лечу…
— Ты бы, мамочка, соснула. —
Отвечает: — Не хочу…
Что там ныне не приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.
Но какой ни выйдет сон,
снится маме утомленной:
это он,
это он,
с ложки
некогда
кормленный.
«Ну что же, я в положенные сроки…»
Ну что же, я в положенные сроки
расчелся с жизнью за ее уроки.
Она мне их давала, не спросясь,
но я, не кочевряжась, расплатился
и, сколько мордой ни совали в грязь,
отмылся и в бега пустился.
Последний шанс значительней иных.
Последний день меняет в жизни много.
Как жалко то, что в истину проник,
когда над бездною уже заносишь ногу.
Хочу умереть здесь
и здесь же дожить рад.
Не то чтобы эта весь,
не то чтобы этот град
внушают большую спесь,
но мне не преодолеть
того, что родился здесь
и здесь хочу умереть.
Хочу понимать язык
соседа
в предсмертном бреду.
Я в счастьи к нему привык
и с ним буду мыкать беду,
чтоб если позвать сестру
в последнем темном бреду,
то прежде, чем умру,
услышать: «Чего там? Иду».
Необходимо мне,
чтобы на склоне дней
береза была в окне,
чтобы ворона на ней,
чтобы шелест этой листвы
и грай
услышались мне
в районной больнице Москвы,
в родимой стороне.
Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на легком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Все дальше ты уходишь постепенно.
Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.
Все то, что было твердого во мне,
стального, — от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне еще вставать, и падать,
и вновь вставать.
Еще мне не пора.
Тень переходит в темь.
День переходит в ночь.
Все-таки, между тем,
можно еще помочь.
Шум переходит в тишь.
Звень переходит в немь.
Что ты там мне ни тычь,
все-таки, между тем…
Жизнь переходит в смерть.
Вся перешла уже.
— Все-таки, между тем! —
Крикну на рубеже.
Шаг переходит в «Стой!».
«Стой!» переходит в «Ляг!».
С тщательностью простой
делаю снова шаг:
шаг из тени в темь,
шаг из шума в тишь,
шаг из звени в немь…
Что ты там мне ни тычь!
— Стой! Остановись!
Хоть на миг погоди,
не прекращайся, жизнь!
В смерть не переходи.
«Я был кругом виноват, а Таня мне…»
Я был кругом виноват, а Таня мне
все же нежно сказала: — Прости! —
почти в последней точке скитания
по долгому мучающему пути.
Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась —
прощенья попросить захотела.
А я ничего не видел кругом —
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом
и я был жив.
А она умирала.
Жена умирала и умерла —
в последний раз на меня поглядела, —
и стали надолго мои дела,
до них мне больше не было дела.
В последний раз взглянула она
не на меня, не на все живое.
Глазами блеснув,
тряхнув головою,
иным была она изумлена.
Я метрах в двух с половиной сидел,
какую-то книгу спроста листая,
когда она переходила предел,
тряхнув головой,
глазами блистая.
И вдруг,
хорошея на всю болезнь,
на целую жизнь помолодела
и смерти молча сказала: «Не лезь!»
Как равная,
ей в глаза поглядела.
«Мужья со своими делами, нервами…»
Мужья со своими делами, нервами,
чувством долга, чувством вины
должны умирать первыми, первыми,
вторыми они умирать не должны.
Жены должны стареть понемногу,
хоть до столетних дойдя рубежей,
изредка, впрочем, снова и снова
вспоминая своих мужей.
Ты не должна была делать так,
как ты сделала. Ты не должна была.
С доброй улыбкою на устах
жить ты должна была,
жить должна была.
Жить до старости, до седины
жены обязаны и должны,
делая в доме свои дела, чьи-нибудь
сердца разбивая
или даже — была не была —
чарку — в память мужей — распивая.
Это я, Господи!
Из негритянского гимна
Это я, Господи!
Господи — это я!
Слева мои товарищи,
справа мои друзья.
А посередине, Господи,
я, самолично — я.
Неужели, Господи,
не признаешь меня?
Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим и делом
лучше меня она.
Если выйдет решение,
что я сошел с пути,
пусть ей будет прощение:
Ты ее отпусти!
Что Ты значил, Господи,
в длинной моей судьбе?
Я Тебе не молился —
взмаливался к Тебе.
Я не бил поклоны —
не обидишься, знал.
Все-таки, безусловно,
изредка вспоминал.
В самый темный угол
меж фетишей и пугал
я Тебя поместил.
Господи, Ты простил?
Ты прощай мне, Господи:
слаб я, глуп, наг.
Ты обещай мне, Господи,
не лишать меня благ:
черного теплого хлеба
с желтым маслом на нем
и голубого неба
с солнечным огнем.
«Господи, больше не нужно…»