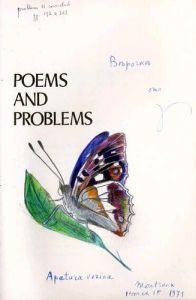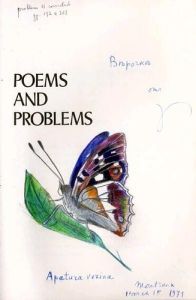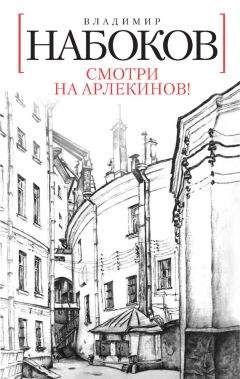107. ПАМЯТИ ДРУГА{*}
В той чаще, где тысячи ягод
краснели, как точки огня,
мы двое играли; он на год,
лишь на год был старше меня.
Игру нам виденья внушали
из пестрых, воинственных книг,
и сказочно сосны шуршали,
и мир был душист и велик.
Мы выросли… Годы настали
борьбы и позора и мук.
Однажды, мне тихо сказали:
«Убит он — веселый твой друг…»
Хоть проще всё было, суровей, —
играл он всё в ту же игру.
Мне помнится: каплями крови
краснела брусника в бору.
108. «Простая песня, грусть простая…»{*}
Простая песня, грусть простая;
меж дальних веток блеск реки.
Жужжат так густо, пролетая,
большие майские жуки.
Закатов поздних несказанно
люблю алеющую лень…
Благоуханна и туманна,
как веер выцветший, сирень.
Ночь осторожна, месяц скромен;
проснулся филин; луг росист.
Берез прелестных четко-темен
на светлом небе каждый лист.
Как жемчуг в раковине алой
мелькает месяц вдалеке,
и веет радостью бывалой
девичья песня на реке…
<22 декабря 1921>
Тень за тенью бежит — не догонит,
вдоль по стенке… Лежи, не ворчи.
Стонет ветер? И пусть себе стонет…
Иль тебе не тепло на печи?
Ночь лихая… Тоска избяная…
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?
Это — Русь, а не вьюга степная!
Это корчится черная Русь!
Ах, как воет, как бьется — кликуша!
Коли можешь — пойди и спаси!
А тебе-то что? Полно, не слушай…
Обойдемся и так — без Руси!
Стонет ветер всё тише, всё тише…
Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи..
Завтра будут сугробы до крыши…
То-то вьюга! Да ну ее! Спи.
1919
110. «Катится небо, дыша и блистая…»
Катится небо, дыша и блистая…
Вот он — дар Божий, бери не бери!
Вот она — воля, босая, простая,
холод и золото звонкой зари!
Тень моя резкая — тень исполина.
Сочные стебли хрустят под ступней.
В воздухе звон. Розовеет равнина.
Каждый цветок — словно месяц дневной.
Вот она — воля, босая, простая!
Пух облаков на рассветной кайме…
И, как во тьме лебединая стая,
ясные думы восходят в уме.
Боже! Воистину мир Твой чудесен!
Молча, собрав полевую росу,
сердце мое, сердце, полное песен,
не расплескав, до Тебя донесу…
И снова, как в милые годы
тоски, чистоты и чудес, —
глядится в безвольные воды
румяный, редеющий лес.
Простая, как Божье прощенье,
прозрачная ширится даль.
Ах, осень, мое упоенье,
моя золотая печаль!
Свежо, и блестят паутины…
Шурша, вдоль реки прохожу;
сквозь ветви и гроздья рябины
на тихое небо гляжу.
И свод голубеет широкий,
и стаи кочующих птиц —
что робкие, детские строки
в пустыне старинных страниц.
112. «Часы на башне распевали…»{*}
Часы на башне распевали
над зыбью ртутною реки,
и в безднах улиц возникали,
как капли крови, огоньки.
Я ждал. Мерцали безучастно
скучающие небеса.
Надежды пели ясно-ясно,
как золотые голоса.
Я ждал, по улицам блуждая,
и на колесах корабли,
зрачками красными вращая,
в тумане с грохотом ползли.
И ты пришла, необычайна,
меня приметила впотьмах,
и встала бархатная тайна
в твоих языческих глазах.
И наши взгляды, наши тени
как бы сцепились на лету,
и как ты вздрогнула в смятенье,
мою предчувствуя мечту!
И в миг стремительно-горящий,
и отгоняя, и маня,
с какой-то жалобой звенящей
оторвалась ты от меня.
Исчезла, струнно улетела…
На плен ласкающей любви
ты променять не захотела
пустыни вольные свои.
И снова жду я, беспокойный, —
каких чудес, какой тиши?
И мечется твой ветер знойный
в грядущих впадинах души.
<Август 1920>; Лондон. Marble Arch
113. «Звон, и радугой росистой…»{*}
Звон, и радугой росистой
малый купол окаймлен…
Капай, частый, капай, чистый,
серебристый перезвон…
Никого не забывая,
жемчуг выплесни живой…
Плачет свечка восковая,
голубь дымно-голубой…
И ясны глаза иконок,
и я счастлив, — потому
что церковенька-ребенок
распевает на холму…
Да над нею, беспорочной,
уплывает на восток
тучка вогнутая, точно
мокрый, белый лепесток…
<Январь 1920>; Кембридж
114. «Будь со мной прозрачнее и проще…»{*}
Будь со мной прозрачнее и проще:
у меня осталась ты одна.
Дом сожжен, и вырублены рощи,
где моя туманилась весна,
где березы грезили, и дятел
по стволу постукивал… В бою
безысходном друга я утратил,
а потом и родину мою.
И во сне я с призраками реял,
наяву с блудницами блуждал;
и в горах я вымыслы развеял,
и в морях я песни растерял.
А теперь о прошлом суждено мне
тосковать у твоего огня.
Будь нежней, будь искреннее. Помни,
ты одна осталась у меня.
12 ноября 1919
Только елочки упрямы, —
зеленеют, — то во мгле,
то на солнце. Пахнут рамы
свежим клеем; на стекле
перламутровый и хрупкий
вьется инея цветок;
на лазури, в белой шубке,
дремлет сказочный лесок.
Утро. К снежному сараю
в гору повезли дрова.
Крыша искрится; по краю —
ледяные кружева.
Где-то каркает ворона;
чьи-то валенки хрустят;
на ресницы с небосклона
блестки пестрые летят…
116. «Мой друг, я искренно жалею…»
Мой друг, я искренно жалею
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе
сеть изумительную жилок,
и точки желтых бугорков,
и след зазубренный от пилок
голуборогих червяков.
Взволнован мир весенним дуновеньем,
вернулись птицы, и звенят ручьи
бубенчиками влаги. С умиленьем
я разбираю мелочи любви
на пыльных полках памяти. Прохладно
в полях и весело в лесу; куда
ни ступишь — крупный ландыш. Как вода,
дрожит лазурь — и жалобно и жадно
глядит на мир. Березы у реки —
там, на поляне, сердцем не забытой,
столпились и так просто, деловито,
развертывают липкие листки,
как будто это вовсе и не чудо;
а в синеве два тонких журавля
колеблются, и может быть, оттуда
им кажется зеленая земля
неспелым, мокрым яблоком…
118. «Маркиза маленькая знает…»
Маркиза маленькая знает,
как хороша его любовь.
В атласный сад луна вступает,
подняв напудренную бровь.
Но медлит милый, — а былинке
былинка сказывает сон:
на звонком-тонком поединке
он шпагой мстительной пронзен.
Фонтаны плещут, и струисто
лепечет жемчуг жемчугу:
лежит он, мальчик серебристый,
комочком шелка на лугу.
Она бледнеет и со страхом,
ища примет, глядит на птиц,
полет их провожая взмахом
по-детски загнутых ресниц.
И всё предчувствие живее;
рыданий душит горький зной,
и укорачивает веер
полупрозрачный, вырезной,
то смутно-розовый, то сизый,
свою душистую дугу, —
а рот у маленькой маркизы —
что капля крови на снегу…