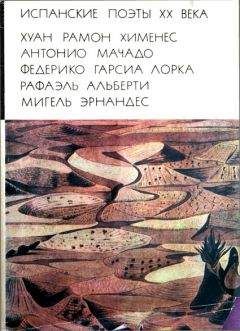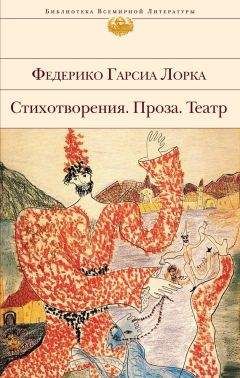«Я слышу напевы…»
Перевод О. Савича
Я слышу напевы
старых-старых песен,
поют их дети,
играя вместе
и вместе изливая
своих сердец мечтанья,
как изливают воду
каменные фонтаны:
всегда на тех же нотах
со смехом и слезами,
но смех тот невесел,
а слезы льются сами
без горечи и боли, —
и с ними льются чинно
любовные печали
легенд старинных.
В детском рассказе
о печали страстной
история туманна,
но горе ясно;
и так же ясно
вода ведет сказанье
о старой любви, которой
удел — молчанье.
На площади старой
в тени играя,
пели дети хором…
Струя крутая
каменного фонтана
лилась не смолкая.
Дети пели хором
наивную сказку
о чем-то, что проходит
и не придя погаснет:
история туманна,
но горе ясно.
И этому рассказу
фонтан спокойно вторил
историю отбросив,
рассказывал о горе.
Берега Дуэро{30}
Перевод М. Самаева
Аист глядит с колокольни, обозревая округу.
Вкруг развалившейся башни с криками, как с перепугу,
носятся ласточки. Вихри, лютые бури, метели,
словно дыхание ада, с белой зимой пролетели.
Утро. И слабое, низкое
солнце с трудом прогревает скудную землю сорийскую.
Зелень косматых сосенок
заголубела, вздохнула.
Вся удивленье, спросонок
робко весна проглянула
из тополей. Под обрывом, меж берегов, на приволье
дремлет Дуэро. Есть что-то детское в радости поля.
Среди травы голубеет, в утреннем мареве нежась,
новорожденный цветок. О первое данная свежесть
тайной поры обновленья!
Тополи белых дорог, тополи белых селений,
снежной горы полыхание
средь голубого огня.
Солнце безбрежного ясного дня…
Как хороша ты, Испания!
* * *
«На вымершую площадь…»
Перевод Б. Дубина
На вымершую площадь
ведут проулки по глухим кварталам.
Наискосок — церковка
чернеет облупившимся порталом;
с другого края — пальмы
и кипарисы над стеной белёной;
и, замыкая площадь, —
твой дом, а за решеткою оконной —
твое лицо, так счастливо и мирно
сквозящее, за сумерками тая…
Не постучу. Я тороплюсь сегодня,
но не к тебе. Приходит молодая
весна, белея платьем
над площадью, что гаснет, цепенея, —
идет зажечь пурпуровые
розы в твоем саду… Я тороплюсь за нею…
* * *
«Иду, размышляя, по росным…»
Перевод О. Чухонцева
Иду, размышляя, по росным
лугам, по тропе луговой.
Дубы пропыленные, сосны
зеленые над годовой.
Куда убегает тропинка?
Не знаю. Она далека.
Ложится вечерняя дымка,
и падает песня в луга.
Ах, в сердце заноза застряла.
Однажды я вырвал ее
и чувствую — сердца не стало.
Кто скажет, где сердце мое?
И дума моя безответна,
и в тишь отдаются шаги,
и слышно в тиши, как от ветра
звенят тополя у реки.
И песня моя безутешна,
а вечер темней и темней,
и за темнотою кромешной
не видно тропинки моей.
Заноза моя золотая,
как счастлив я был бы опять,
горючие слезы глотая,
забытую боль ощущать!
* * *
«Словно твое одеянье…»
Перевод В. Андреева
Словно твое одеянье,
облака легкий полет.
Я больше тебя не увижу,
но сердце все-таки ждет.
Твоим дыханием тихим
дышит ночной небосвод,
в каждом горном ущелье
отзвук шагов живет.
Я больше тебя не увижу,
но сердце все-таки ждет.
С башен и колоколен
медленный звон плывет.
Я больше тебя не увижу,
но сердце все-таки ждет.
По крышке черного гроба
бьет молоток и бьет,
неотвратим и жаден
могилы уродливый рот.
Я больше тебя не увижу,
но сердце все-таки ждет.
Канте Хондо{31}
Перевод А. Гелескула
Притихший, я разматывал устало
клубок раздумий, тягот и унынья,
когда в окно, распахнутое настежь,
из летней ночи, жаркой, как пустыня,
донесся стон дремотного напева —
и, ворожа плакучей кантилене,
разбили струны в сумрачные трели
мелодию родных моих селений.
…Была Любовь, багряная, как пламя…
И нервная рука в ответ руладам
взлетела дрожью вздоха золотого,
который обернулся звездопадом.
…И Смерть была, с косою за плечами…
— Я в детстве представлял ее такою —
скелет, который рыскал по дорогам…
И, гулко вторя смертному покою,
рука на растревоженные струны
упала, словно крышка гробовая.
И сирый плач дохнул подобно ветру,
сметая прах и пепел раздувая.
* * *
«Вечер. На балконах дотлевает пламя…»
Перевод Б. Дубина
Вечер. На балконах дотлевает пламя
гаснущего солнца, скрытого домами.
Чье лицо мелькнуло за стеклом оконным
розовым овалом, смутным и знакомым?
Проступает облик из неверной дымки
то бледней, то ярче, как на старом снимке.
Одиноким эхом будишь запустенье;
все туманней блики, все чернее теня.
О, как тяжко сердцу!.. Это ты?.. Затишье…
никого… дорога… и звезда над крышей.
* * *
«Беглянка всегда, и всегда…»
Перевод О. Савича
Беглянка всегда, и всегда
со мною рядом, вся в черном,
едва скрывая презренье
на бледном лице непокорном.
Не знаю, куда ты уходишь,
где ночью краса твоя с дрожью
постель себе брачную ищет,
какие сны растревожат
тебя и кто же разделит
негостеприимное ложе.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Краса нелюдимая, стой
на этом ночном берегу!
Хочу целовать я горький
цветок твоих горьких губ.
Горизонт
Перевод М. Квятковской
Вечером, вольным и терпким, подобным тоске,
в час, когда копья метало палящее лето,
сон мой недобрый дробился и плыл вдалеке
сотнями призрачных теней, бегущих от света.
Пурпурным зеркалом был несравненный закат,
в алом стекле отражал он пожар величавый,
страшные сны унося в бесконечную высь.
Я услыхал, как шаги мои гулко звучат
и отдаются в пустыне за далью кровавой —
там, где веселые песни зари занялись.
* * *
«Зеленый палисадник…»
Перевод Н. Горской
Зеленый палисадник,
улочка прямая
и фонтан замшелый,
где вода немая
видит сновиденья,
камни омывая.
Почернела зелень
вянущих акаций,
их сентябрь целует,
и несет куда-то
налетевший ветер
желтый лист измятый,
на земле играя
с пылью беловатой.
Смуглая красотка,
свой кувшин наполнив
влагою стеклянной,
ты меня заметишь,
но рукою легкой,
словно бы случайно,
не поправишь локон,
завиток атласный,
и в зеркальный глянец
на себя не глянешь.
Ты стоишь под ветром
вечером душистым,
и водою светлой
полнятся кувшины.