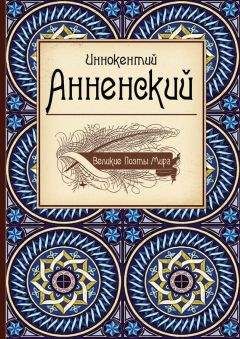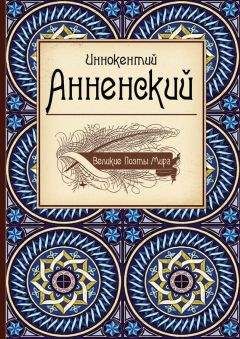Трагедийное напряжение этих стихов, их пластическая и звуковая мощь скрыто поддержаны тихостью названий. Впрочем, как и многих других («В дороге», «Под новой крышей», «Свечка гаснет», «Свечку внесли», «Под зеленым абажуром», «В вагоне», «С кровати», «Из окна», «Будильник», «Рабочая корзинка»). Это очень существенно для лирики Анненского вообще.
Резкость, с которой Анненский изображает психологическое состояние, держится на вибрирующем напряжении чувства.
Если б вдруг ожила небылица,
На окно я поставлю свечу,
Приходи… Мы не будем делиться,
Всё отдать тебе счастье хочу!
Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна,
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.
Но… бывают такие минуты,
Когда страшно и пусто в груди…
Я тяжел – и немой и согнутый…
Я хочу быть один… уходи!
Отброшенный свет последних строк, их прозаическая неуклюжесть и сбивчивость преображают лирическую пьесу. И то старинное, трогательное, прелестно-сентиментальное, что пронизывает стихотворение, оказывается в свете правды. Происходящее происходит сейчас. Сиюминутность, мгновенье драмы, не спрашивая разрешения, задевают нас. И мы уже не свидетели, не наблюдатели, мыее действующие лица.
Одно из высочайших созданий Иннокентия Анненского, да и всей русской поэзии XX века, – стихотворение «Петербург». Оно – важнейшее звено нашего национального мифа (Петербург – Медный всадник). Это миф, возникший в ту пору, когда закладывался город, а под рукой Пушкина обретший гигантски совершенную значительность, несет в себе загадку и тайну российской истории: трагическое противостояние народа и государственности, сплетение «родного» и «вселенского». Гоголь, Достоевский и Некрасов (святые для Анненского имена) создали свой Петербург. В начале XX века катастрофические предчувствия вновь ожили. В прозе Мережковского и Андрея Белого, в поэзии Блока, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, в живописи и графике Бенуа и Добужинского предстает иной Петербург. Вот что писал о новом ощущении этого города Анненский: «“Петра творение”» стало уже легендой, прекрасной легендой, и этот дивный «град» уже где-то над нами, с колоритом нежного и прекрасного воспоминания. Теперь нам грезятся новые символы, нас осаждают еще не оформленные, но уже другие волнения, потому что мы прошли сквозь Гоголя и нас пытали Достоевским» («О современном лиризме»). Не о литературных воздействиях и влияниях тут речь, не об изменившемся архитектурном и социальном облике города, но о тайне гранитного призрака, на который уже падают отблески недалеких потрясений:
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Это написано человеком далеким от пророчеств, чиновным и лояльным петербуржцем, статским генералом имаститым филологом-классиком, да ипросто пожилым человеком. Политический радикализм ему был чужд, «искать Бога по пятницам» он не мог и не хотел. Всегда знал, что «веры выдумать нельзя», да и, в известном смысле, любил «имперский блеск». Сын поэта вспоминал: «Сложная и многогранная душа Иннокентия Анненского всеже была именно русской душой, всеми тончайшими нитями своими связанная со своей родиной, которую он любил верной, твердой и скорбной любовью». Важнейшее свидетельство! Стихотворение выношено «верной, твердой и скорбной любовью». Железный стих, глухая интонация, несколько штрихов петербургского ландшафта, плиты, камни, мгновенья жутких исторических воспоминаний, мужественно-спокойное видение будущего страны, «гиганта на скале». И все неумолимо стремится к одному – к чудовищному пустяку (детали памятника Петру), к попранной змее – злу. «Царь змеи раздавить не сумел, // И прижатая стала наш идол». Так явлена «проклятая ошибка», исторический тупик, неизбежность расплат. Явлена строго, без рефлексий и философской истерики о концах мира сего. В стихах вызревает, кроется за каменной грандиозностью тема возмездия, его неотвратимости… столь жгуче-важная и у Александра Блока. Зло никогда не было попрано, оно – «наш идол». Так «тревожная душа человека XX столетия», застигнутого приближающейся бурей, принимает вызов судьбы, не склоняясь перед ним. Этой душе еще неизвестен «сдавшейся мысли позор». Сознание всеобщего неблагополучия окрашивает поэзию Анненского в тона жуткие:
Какой кошмар! Все та же повесть…
И кто, злодей, ее снизал?
Опять там не пускали совесть
На зеркала вощеных зал…
Превращение людей в заводные игрушки миропорядка, двойничество человека, его отчаянная борьба с отмеренным судьбой временем (часы, стальная цикада часов, мерный ход маятника) преследовали Анненского:
О чьем-то недоборе
Косноязычный бред…
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет.
Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце – счетчик муки,
Машинка для чудес…
Я завожусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На «да» и «нет», на «ах!» и «бя»…
Лирика Анненского всегда, или почти всегда, загадочна. И происхождение этой загадочности коренится не в сложности, шифрованности, смысловой смутности и ускользающих от рационального постижения намеках, а в особой психологической резкости, рождающейся будто из ничего, из словесного праха, романсной банальности, каких-то пустячных сцеплений.
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
Всё по отдельности в этом стихотворении разрушительно для поэзии: псевдозначительность заглавных букв и местоимений, набившие к той поре оскомину «миры» и «светила», сомнительная в своей выспренности «Звезда», убогие «томленья» и «сомненья», жалкие рифмы (светил – любил, ответа – света) – во времена стихотворно-технических новаций и экспериментов. Наконец, чудовищное косноязычие (на восемь строк четыре раза употребленное «потому, что», неповоротливо-тяжкое даже для прозы сочетание)… Все так. Но почему же родился лирический шедевр, перл создания, как говорили в старину? Откуда эта власть, эта правда поэта, мгновенно ставшая нашей правдой! Откуда пленительная естественность задыхающейся речи? Обрывающейся «не окончанием, а затиханием», как по другому поводу писал Ан-ненский. Никакие объяснения тут невозможны. Их просто нет. «Отрицательная болезненная сила муки уравновешивается в поэзии силою красоты, в которой заключена возможность счастья» («Символы красоты у русских писателей»). Вот что есть в этих стихах – «обещание счастья». Здесь разгадка их неотразимости. Более чем обыкновенные слова перемолоты интонацией, она заставила «тихое» слово сказаться. Правдивость и искренность высказывания стократно усилены «своеобразным лирическим стыдом себя, стыдом лирического пафоса, стыдом лирической откровенности» (Бахтин об Анненском). Это беспримесная поэзия, нерукотворные слова. Им не нужна артистическая поддержка со стороны, в которой всегдаесть что-то отухищрений искусности, ибо «поэт не создает образов, но он бросает векам проблемы». Словам возвращено их промотанное людьми содержание, внушающая сила и твердость. Стихотворение «О нет, не стан» – знаменитая, единственная в своем роде лирическая пьеса. Двенадцать строк, три строфы. Написано оно в 1906 году в Вологде.
О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.
Так иногда в банально-пестрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И Тень, и Смерть над маской короля…
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость – только мука
По где-то там сияющей красе…
Вернее сказать, что стихотворение не написано, а пишется каждый раз, когда его читают. Оно вновь и вновь создается опытом воспринимающего сознания, чуткого и открытого. Лишь в нем оно возводится в единство многих равноправных смыслов. Его мерцанье обращено не к сознанию поэтически развитому, а к слепо ищущему «оправдания жизни».