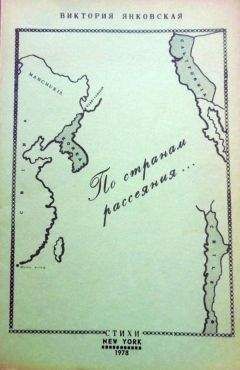Я же — пчела
Солнце сегодня взглянуло в леток:
Ветер, хребты целовавший, нашептывал в улей;
Так захотелось увидеть цветок!
Чувствую, знаю наверно — сегодня проснулись…
Я полетела, где серенький снег
Пашни долины в себя с упоеньем впивают.
Снова журчанье порывистых рек —
В них отражаюсь и вижу, что снова жива я!
Россыпь живых самородков весны —
Дети приморских предгорий — Адонисы это!
Лапками их задеваю — они
Глазки открыли в пушке золотистого цвета.
«Лапками сердца» я первый медок
В улей, зимой пустовавший, таскаю, воруя:
Солнце скрутило весь мо рос в моток,
Крылья свои я впрягаю в небесную сбрую.
Это мой первый адонисный вклад.
Скоро — багульник, фиалки — зажгутся по склонам…
Год обеспечен! Ликуя жужжат
Мысли, рожденные мартовским первым бутоном.
Я поняла только в улье зимой,
По собиранью цветочного меда тоскуя,
Что поклоняюсь я Флоре самой:
Я же — Пчела! И не нужно мне пищу другую!
1930
Пора была вам распуститься лишь весною,
Цветы багульника малиновых оттенков,
Но, в вазочку поставленные мною,
Вы распустились вдруг на тонких ветках…
На улице зима и снег еще белеет,
А вы нежнейшими дрожите лепестками,
И листики тихонько зеленеют,
Глядя кругом весенними глазами.
Вам преждевременное пробужденье странно?
Вам кажется — судьба цветочная ошиблась?
Нет, — каждого не поздно и не рано —
По предопределенью сердце билось.
1930
Над Кореей вечер моросистый
Распустил печальное крыло,
Нити тонких аметистов
В небе судорогой замело.
Кто глядит, зовет и манит в дали?
Взор пустой и страшный — без лица…
Горы эхом отвечали:
«Кто ты? Кто ты?» — без конца.
Не увидишь. Дух его поранен.
Плоти нет — и в том его тоска.
Мир его не твой — безгранен,
За сегодняшним «пока».
Я иду, иду сквозь влажный морос…
Близко… Где ты? — Вовсе никого…
Но откуда этот голос?
Зовы вечные тревог?
Аметист сменен агатом черным,
А его прогонят янтари…
Чьей-то воле ты покорный
Проскитался до зари…
Возвратишься. До заката смолкли
Эти зовы: Гор ли? Сосен? Скал?
На тебе одежды волглы,
Чтоб ты помнил, что искал.
Новина, 1928
Сирена надрывается в порту,
Указывая путь плутающим в тумане.
Кругом бело, но я тропу найду
Туда, где ландыши смеются на поляне.
Как жемчуга! Стоят, как бы в бреду…
Таких — не видели, не знают горожане, —
Такие ландыши в своем чаду
Хмельно звенят, танцуя в сказочном тумане…
Срывая, жизнь прекрасную краду…
Прислушайся! — Услышишь тонкое стенанье…
И в унисон с сиреною в порту
Оно поет о майском грустном расставанье.
Сейсин, 1939
В мартовском покое на пригреве,
На сухой траве, под шелест сосен,
Мне послышались опять напевы
Отлетевших прежних весен.
В небе плачут журавли и гуси,
И опять летят они на север.
И опять во мне так много грусти…
Жизнь — полуоткрытый веер!
Потихоньку веер раскрывает
Только дольки — гибкие, как струнки.
Но по ним никто не угадает
Продолжение рисунка…
Корея, 1937
«Ночью я зачиталась нечаянно…»
Ночью я зачиталась нечаянно.
Вышла в сад. Все уже голубое.
И луна — точно роза чайная
За рассветным туманным прибоем.
Сразу тополи стали глазастыми,
Растопырив ресницы впервые;
А движения ветра вихрастого
Провели по песку кривые.
Это май бросил ландыш с азалией
На хребты исполинской горстью…
Ты, весна моя радостно-шалая!
Ты, душисто-крылатая гостья!
Сейсин, 1930
На Французской Концессии есть пустыри,
Где могилы китайцев буграми;
Где трава, как в деревне, цветами пестрит;
Где плакучие ивы ветвями
В нежно-желтеньких почках качают весну…
Где свистят настоящие птицы —
Не из клеток… где я почему-то взгрустну
На горячих кусках черепицы…
Наш асфальтовый серый унылый пассаж
С целым рядом домов трафаретных —
Затенит на мгновенье далекий мираж,
Проскользнувший в цветах незаметных:
Золотой одуванчик увижу я вдруг…
Вспомню пастбище в нашем именье!
Молодых лошадей, коз и клеверный луг,
Белый замок внизу в отдаленье…
Но… пронесся зачем-то крикливый мотор!
Задрожал и поник одуванчик
На печальный китайский могильный бугор,
Прошептав: «Извини, я — обманщик…»
Я жалею цветы городских пустырей
И забытые всеми могилы…
А посаженных в клетки пичуг и зверей
Я бы всех навсегда отпустила…
И корейским цветам расскажу я потом
Про смешной одуванчик шанхайский,
Что могилу считает высоким хребтом,
А пустырь — обиталищем райским!
И про то, как забывши свой грустный удел,
И раскрыв золотистые очи,
В этом городе плоском мгновенно успел
Одуванчик меня заморочить…
Шанхай, 1929
Опять разворочено русло разливом.
Река — гоголь-моголь! Река — шоколад!
В ней влажные скалы блестят черносливом,
И в пене и в брызгах сырой аромат.
Опять та же серая цапля в бурунах
Летит, опьяненная гвалтом реки…
Захлестнуты обе корейским тайфуном,
Мы чертим по скалам косые штрихи.
И этого дикого бега и бреда
Не сможет постигнуть какой-то другой,
А скользкие скалы не выдадут следа,
Смывая его под моей ногой.
Новина, 1930
Только слышать шумы буйных сосен.
Только видеть взвихренное море!
Это ты — прекраснейшая осень,
Ты летишь ко мне, ветра пришпорив.
Куришь смолы пряных ароматов
И бросаешь огненные блики.
Но воинственно блистают латы
Сквозь просветы девичьей туники.
В солнце — обжигающая нега.
В ветре — всепронзающая стужа.
Горизонт сверкает в блеске снега,
Волны мечутся в обрывках кружев.
А вокруг еще пылают клены,
И синее неба генцианы,
И томящие, как зов влюбленной,
Звуки неба — птичьи караваны.
1938
Звенящие волны чумизы
И сжатый созревший ячмень.
Под летним полуденным бризом
Им шевелиться лень.
Иду по полям бороздою,
Иду, улыбаюсь и жду:
Какою наделишь мздою?
Какую пошлешь звезду?
Луна, как нерпа золотая,
Ныряет в облачных волнах,
А моря гладь лежит, блистая,
И плещется в дремотных снах.
Хребет богатырем уснувшим
Глядит на небо сквозь века.
Кто знает больше о минувшем,
Чем волны, скалы, берега?
Песчинкой на песке у жизни
Проходит бытие людей:
Печали, радость, укоризны —
Вот чем полны осколки дней…
А вечность проплывает мимо,
А вечность окружает нас —
Она одна, одна не мнима,
Непостижимая для глаз…
Глядите в море, в звезды, в небо,
Послушайте лучи луны:
Там вечность совершает требу…
Все остальное — только сны…
Все остальное — преходяще.
Есть мы иль нет, а жизнь течет.
Роса горит в сосновой чаще,
Земля свершает оборот…
А Вечность — мудрая, простая,
Лежит вокруг меня в песках.
И, точно нерпа золотая,
Луна ныряет в облаках.
Лукоморье, 1940