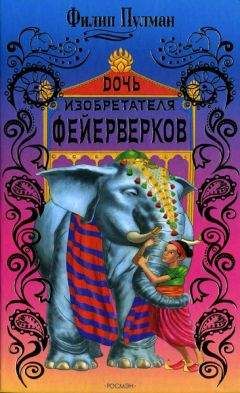1952
Сергей Васильев
Голубь моего детства
Прямо с лёта, прямо с хода,
поражая опереньем,
словно вестник от восхода,
он летит в стихотворенье.
Он такой, что не обидит,
он такой, что видит место, —
он находит для насеста
самый лучший мой эпитет.
И ворчит, и колобродит,
и хвостом широким водит,
и сверкает до озноба
всеми радугами зоба.
Мне бы надо затвориться,
не пускать балунью-птицу,
но я так скажу: ни разу
птицам не было отказу!
С милым гостем по соседству
любо сердцу и перу!..
Встань, далекий образ детства,
белый голубь на ветру.
…Было за полдень. В ограду
на саврасом жеребце
въехал всадник с мутным взглядом
на обветренном лице.
Всадник спешился. Оставил
у поленницы коня
и усталый шаг направил
сразу прямо на меня.
И, оправя лопотину[1],
он такую начал речь:
«Понимаешь, парень, в спину
угодила мне картечь.
Понимаешь… мне того…
Плоховато малость.
Понимаешь… жить всего
ерунду осталось.
Воевал я не за этим!..»
Он придвинулся ко мне,
и я в ужасе заметил
кровь на раненой спине.
Я — от страха в палисадник,
пал в крыжовник и реву…
Только вижу: бледный всадник
опустился на траву.
Только вижу, как баранья
шапка валится на чуб,
только слышу, как страданья
улетают тихо с губ.
Мне, конечно, стало горько,
стало тягостно до слез —
я к нему из-за пригорка,
побеждая страх, пополз.
«Понимаю, — говорю,—
понимаю дюже…
Может, спину, — говорю,—
затянуть потуже?
Понимаю, — говорю, —
но куда ж деваться?»
(Говорю, а сам горю —
не могу сдержаться.)
Теребя траву руками,
всадник веки опустил
и, тяжелую, как камень,
чуя смерть, заговорил:
«Ты челдон, и я челдон.
Оба мы челдоны…
Положи свою ладонь
на мои ладони.
Слышишь, сполохи гудут
по всему заречью —
беляки по нашим бьют
рассыпной картечью.
На семнадцать верст окрест
белые в селеньях,
так что, кроме этих мест,
нашим нет спасенья.
Я, родной мой, прискакал
на заимку эту,
чтобы дать своим сигнал,
если белых нету.
Мы бы стали по врагу
бить из-за прикрытья…
Понимаешь, не могу
дальше говорить я».
Было душно. К придорожью
медом веяло с гречих.
Всадник вздрогнул страшной дрожью,
отвернулся — и затих.
Я, конечно, понял сразу
то, что он не досказал.
И решил, как по приказу:
надо выбросить сигнал!
Я — домой. Комод у входа.
Открываю я комод!
Вижу: в ящиках комода —
свалка, черт не разберет!
В верхнем пусто. В среднем тесно.
В нижнем? В ворохе тряпья
теткин шелковый воскресный
полушалок вижу я!
Мне не жалко полушалка —
разрываю пополам!
Полушалка мне не жалко…
На чердак бегу. А там
со своей подругой вместе,
боевой и злой на вид,
на березовом насесте
голубь мраморный сидит!
«Что ж! — кричу, — послужим, дядя!
Повоюем на лету!»
И, багровый клок приладя
к голубиному хвосту,
я свищу: «Вали на волю!»
И пошел винтить трубач
по воздушному по полю,
по кривой рывками вскачь!
То петлями, то кругами,
то в разлете холостом!
И багровый шелк, как пламя,
За его густым хвостом.
То на выпад, то на спинку,
то как ястреб от ворон!..
Вихрем прибыл на заимку
партизанский эскадрон.
Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз разбить пытались —
восемь раз стекали вниз.
Над заимкой тучи плыли.
У заката на виду
люди всадника зарыли
под калиною в саду.
И поставили подсолнух
у него над головой.
И не дрогнул тот подсолнух,
и стоял, как часовой.
А когда дневное лихо
заступили тьма и тишь,
эскадрон ушел по тихой
дальним бродом за Иртыш.
И не мог я наглядеться
На подсолнух ввечеру.
О далекий образ детства
белый голубь на ветру!
1934
Меня в Полесье занесло.
За реками и за лесами
Есть белорусское село —
Все с ясно-синими глазами.
С ведром, босую, у реки
Девчонку встретите на склоне.
Как голубые угольки,
Глаза ожгут из-под ладони.
В шинельке — видно, был солдат! —
Мужчина возится в овине.
Окликни, он поднимет взгляд,
Исполненный глубокой сини.
Бредет старуха через льны
С грибной корзинкой и с клюкою,
И очи древние полны
Голубоватого покоя.
Пять, у забора, молодух —
Судачат, ахают, вздыхают.
Глаза
— захватывает дух! —
Так синевой и полыхают.
Девчата?
Скромен их наряд,
Застенчивые чаровницы,
Зардевшись,
синеву дарят,
Как драгоценность, сквозь ресницы.
1955
Андрей Вознесенский
Параболическая баллада
Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке, и реже — по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген.
Богема, а в прошлом торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,
Он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел
тяготенье земное.
Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче.
Не лучше ль скопировать райские кущи?»
А он уносился ракетой ревущей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши,
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой
гневно
пробив потолок!
Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.
Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!
Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном…
О, как ты звенела во мраке вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,
приземляясь по ним —
Земным и озябшим твоим позывным,
Как трудно дается нам эта парабола!..
Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство, любовь и история —
По параболической траектории!
В сибирской весне утопают калоши…
А может быть, все же прямая — короче?
1959
Хотя миновало полвека,
Я помню ту встречу, тот поезд,
В котором восставших матросов
Судить из Одессы везли.
Я с мамой в толпе на перроне,
На харьковском душном вокзале.
В руках у нас красные астры,
И боль и тревога в сердцах.
Товарных вагонов оконца
В железных решетках; за ними
Простые крестьянские лица,
Усталы, небриты они…
И золотом на бескозырках —
«…Потемкин Таврический». Люди,
Поднявшие красное знамя!
«Герои», — я слышу вокруг.
И вот через головы стражи
Цветы полетели в оконца.
И жесткие руки в оковах
Обратно бросают цветы.
И радость в глазах у матросов:
— Спасибо! Товарищи! Братья! —
А стражники курят спокойно:
Цветы, мол. Не бомбы. Пускай…
Гудок паровоза. Вагоны
Осями скрипят, шевелятся.
На север, где будет расправа!
— Прощайте! Мужайтесь, друзья! —
Держу я ту астру, что бросил
Потемкинец через решетку —
Усатый, с бровями ржаными,
С огнем и смешинкой в глазах.
И долго хранил я подарок.
И, в бурях Октябрьских встречая
Матросов с оружьем, в бушлатах,
В их грозные лица смотрел.
Казалось, что встречу я друга,
Который ребенку когда-то,
Мне бросил ту красную астру —
Дар сердца и мужества зов.
1955