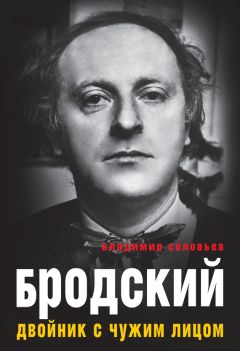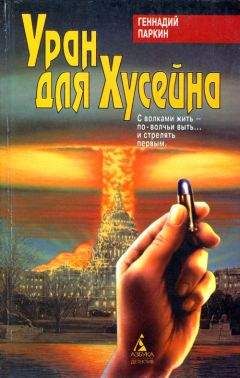В книге «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества» дан не триумф, а трагедия поэта. Трагедия – его муза и питательная среда его триумфа. Его личная трагедия стала его триумфом, не перестав быть трагедией.
«Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекрасная струна его лиры», – провидчески писал князь Петр Вяземский о Бродском. Лавровые листья его нобелевского венка интересуют автора этой книги в последнюю очередь, если интересуют вообще. Разве что предпринятые Бродским усилия для получения высшей на земле награды, которые дорогого ему стоили и дорого обошлись, но он был сам себе суперменеджер, саморекламист и, словами Ахматовой, не про него сказанными, «виртуозный ловец человеков», по-здешнему – «useful people»: от Сьюзен Зонтаг и Роберта Страуса до супругов Либерман, много поспособствовавших получению Премии, несомненно, им заслуженной и вымечтанной с давних питерских времен, судя по французскому стишку, сочиненному им на заре туманной юности без никакого знания французского языка:
Prix Nobel?
Oui, ma belle.
В ожидании Нобеля он прожил всю свою сознательную жизнь вплоть до ее присуждения – не он один, но ИБ больше других, такая страсть не может быть односторонней, не может не быть вознаграждена. Не знаю, буду ли верно понят, да мне все равно: Премию он получил не только за свой великий талант, но и за великое ее вожделение. Не будь Нобельки, Бродский на нашей с ним географической родине котировался бы высоко, но не выше, чем другие поэты-современники – в одном ряду с Ахмадулиной, Окуджавой, Евтушенко, Вознесенским, Высоцким, Коржавиным, Самойловым и проч. Как знать, может даже ступенькой ниже иных из них. Было отчего иным из них озлобиться и шизануться, даже тем, кого рядом с Нобелькой не стояло (см. мемуар того же Наймана, еще одного друга-врага Бродского, а поэта – никакого), когда шведы выбрали Бродского. Стокгольм выдал ему охранную грамоту и закрепил за ним первое место в современной русской поэзии – в большом отрыве от остальных.
В отрыв Бродский пошел с конца 60-х. «За мною не дует» – его собственные слова. Он опередил не только поэтов, но и читателей, которым было за ним не угнаться. Отсюда отрицание его стиха многими завидущими питерцами и почти всеми, за редкими исключениями – Игорь Губерман, Борис Слуцкий, Женя Евтушенко, Юнна Мориц, Андрей Сергеев, – москвичами. Напомню о его провальных чтениях в Москве – на поэтическом вечере в МГУ, куда его пригласил Женя Евтушенко (помимо них выступали Белла и Булат), на переводческой секции в ЦДЛ и в ФБОНЕе (Фундаментальной библиотеке общественных наук). Помню, когда мы переехали в Москву, окно в окно с Фазилем Искандером, Жека, наш продвинутый сын, воспитанный на стихах Бродского и хорошо с ним лично знакомый, объяснял Фазилю построчно «Колыбельную Трескового мыса», включая строчки «Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало», на которых застрял адепт классической традиции, пусть и лучший из евтушенок.
Я признал ВР (почему не воспользоваться упомянутой аббревиатурой еще раз?) раньше других – еще в Питере, с первой с ним встречи. Негоже знатоку поэтики и поэзии Бродского курить ему фимиам. Заранее предупреждаю читателей, для которых китч на первом месте. Не моего ума дело.
Хотя на ином уровне понимания мои предыдущие книги о Бродском были востребованы и восприняты вровень с авторским замыслом. «Спасибо Вам за Бродского! – писала мне московский редактор Таня Варламова из “РИПОЛ классик”. – Мне он никогда не был близок, а теперь – это просто какое-то озарение: живу только им». Критик – опять-таки московский – написавший не одну, а две разные, но обе весьма позитивные и лестные автору рецензии на мою запретную книгу о Бродском «Post mortem», точно и тонко ее определил: «Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью». Вот откуда я содрал посвящение этой книги – «Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью»: спасибо, Павел Басинский! Наконец, заголовок газетного материала про ту мою книгу, который был напечатан по обе стороны Атлантики и по обе стороны Америки – в Москве, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке: «Вровень с Бродским». Надеюсь – заменим это кокетливо-скромное слово на «уверен» – уверен, что эта моя новая книга не только вровень с Бродским, но и вровень с двумя моими предыдущими – «Три еврея» и «Post mortem», а те, помимо отдельных изданий, вышли под одной обложкой, и на ней значилось: «Два шедевра о Бродском». Без лишней скромности скажу, что эта книга – мой третий шедевр. Не только эту, каждую книгу пишу, как последнюю, а в этой выложился весь, ничего не оставил за душой, разве что на самом донышке. Пусть и подустал малость. А что, если в самом деле это моя последняя книга? Я скромен, когда говорю о себе, но горд, когда себя сравниваю. Ссылка на маркиза де Кюстина не обязательна – беру его себе в соавторы.
Зато ссылка на моего героя – позарез. На его эссе об Одене «Поклониться тени»:
На что уповаю – что не снижу уровень его рассуждений, планку его анализа. Самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас, – продолжать в его духе. В этом, полагаю, суть всех цивилизаций.
Это что касается теории, но как достичь на практике? Путем перевоплощения? По системе Станиславского? «Я – это он», – настаивал Бродский на тождестве субъекта и объекта, а в «Письме Горацию»: «Ты – это я». Не знаю, что это напоминает читателю, мне – флоберовский принцип «Эмма Бовари – это я». Это когда приятель застал Флобера умирающим – он только что написал, как отравилась его непутевая героиня. Вот и я говорю: «Бродский – это я!» В том смысле, что писал эту книгу, равняясь на его лучшие стихи, да?
Нет и нет! Равняясь на самого Бродского, каким я его знал и каким любил. А знал с питерских времен, общался часто и тесно: у него в «берлоге» в доме Мурузи на Пестеля и у нас на 2-й Красноармейской на наших днях рождения и по другим поводам, а то и просто так, без всякого повода, у общих знакомых и друзей, в больницах на Охте и в Сестрорецке, где он репетировал свою будущую смерть и попрекнул меня, что я прихожу к нему только, когда ему плохо, а уж сколько мы с ним бродили по нашему любимому-нелюбимому умышленному городу – немерено!
Вот одна довольно значимая и знаковая встреча весной 71-го в Доме творчества в Комарово, где я «творил», а точнее, строчил свою книгу о болдинском Пушкине, которую в следующем году защитил как кандидатскую диссертацию. Одна из шести глав в этой книге посвящена скрытым связям Пушкина с йенскими романтиками и Шеллингом, их теоретическим вождем, – в противоположность самоочевидным и к 30-му году исчерпанным французским связям. ИБ слушал жадно, поглощая новую информацию, но, когда зашла речь о болдинских пьесах, ошибочно именуемых «маленькими трагедиями», самым решительным образом заявил, что все это от лукавого, просто Пушкину было никак не остановиться – все четыре пьесы написаны на инерции белого стиха. Я сказал, что это немыслимое упрощение. «А немецкие связи Пушкина – натяжка», – огрызнулся ИБ, но, полистав «Бруно» Шеллинга (издание 1908 года), попросил до вечера. Книжка небольшая, но я был удивлен, когда к вечеру, уезжая в Ленинград, он действительно ее вернул:
– Жаль, что немчура. В остальном приемлем.
Я не сразу понял, что читатель ИБ никакой, о чем спустя пару лет написал в «Трех евреях». ИБ схватывал содержание на лету, с первых двадцати – тридцати страниц, его редко хватало до середины, а целиком прочел, думаю, считаные книги (если прочел). Не читатель, а улавливатель смысла. Sapienti sat – адекватная формула ИБ как читателя. Да и как слушателя. Недели две спустя, уже в Л-де, я убедился, что Шеллинг им освоен – на нужном ему уровне, ни больше ни меньше. Книгоглотатель, потребитель мировой культуры, улавливатель смысла, он был похож на кота, который в разнотравье выбирает именно ту траву, которая в данный момент позарез его организму. У Шеллинга, как выяснилось, ИБ обнаружил две такие «травки»: настойчивое противопоставление чувства рассудку и определение свободы как испытания человека, а мой любимый у Шеллинга афоризм – «В человеке природа снимает с себя ответственность и перекладывает ее на плечи homo sapiens» – повторил вслед за мной с явным удовольствием, запоминая. Я тогда носился с Шеллингом и навязывал его всем знакомым, но один только ИБ купился.
Не считая Пушкина, который купился на самого Шеллинга – согласно моей гипотезе.
Кто в диссертации своей
Нам доказать хотел, что Пушкин —
Шеллингианец? Кто злодей?..
– писал Саша Кушнер в своем стихотворении «К портрету В.И.С.», то есть к моему портрету.