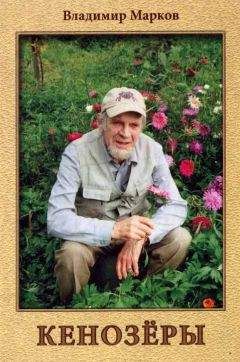Павлу Васильеву
В дымящих по-осеннему садах
Охапками в огне сжигали лето.
Сторожко шепоток ходил, как страх,
Но что тебе до сплетен и наветов!
Ты о стране и о Наталии писал,
Как песню пел — всю на одном дыхании.
Звенел твой мягкий голос, как металл,
Когда читал друзьям «Живи, Испания!»,
Ты жизнь любил во всех её тонах,
От красоты пьянел в восторге светлом.
Но в двадцать шесть, как еретик-монах,
Ты запрещённым умирал поэтом.
Да разве можно звёздам дать запрет
Вершить свой путь дорогами Вселенной?
В поэзии, как в небе, долог свет
Судьбы творца, судьбы его нетленной.
Не дни — года стремительно неслись,
Как скакуны под беспощадной плетью…
Признаньем день твою венчает жизнь,
Не примирившую тебя со смертью.
1974 г.
Всё смешалось во мне: воскресенья и будни,
Даты встреч и размолвок и горечь разлук.
Как бы ни был мой путь и далёким, и трудным,
Я дойду до тебя, мой единственный друг.
Я в дороге уже. Я шагаю упрямо.
Всё к тебе, всё к одной, как на свет маяка.
На пути попадаются кочки да ямы.
Ты прости, что пишу о таких пустяках.
На пути — мелколесье и мох под ногами,
И сороки трещат о дождях и снегах,
И высоко-высоко плывут косяками
Журавлиные стаи, плывут в облаках.
Мне б за ними подняться на крыльях нетленных
И пропеть о любви несказанной моей,
О такой, чтоб и солнце померкло мгновенно,
Но весь мир бы от песни любви стал светлей.
То было не со мной, но всё я помню:
Гремело небо, берега — вдали.
И, вздыбившись, постромки рвали кони,
Не чуя под копытами земли.
Захлёбываясь кашей ледяною,
И лошади, и люди шли на дно.
А кровь мешалась с чёрною водою
И превращалась в смертное вино.
…Мне та река мерещится ночами,
Как будто я барахтаюсь во льду.
В меня стреляют. Жжёт вода и пламя.
Потом проснусь и рад, что был в бреду,
Что просто сон увидел необычный,
Из кинофильма кадры о войне.
А за окошком день встаёт привычный,
Рабочий день наш в мирной тишине.
Родился я позднее Хиросимы,
Когда над нею чёрный гриб вставал.
Сейчас уж внуки выросли большими
У тех, кто до Победы дошагал.
А мы, послевоенные мальчишки
И девочки голодных тех годов,
Войну узнали, нет, не понаслышке.
Она вошла к нам в души, в плоть и кровь.
Как много тех, кто, не успев родиться,
Осиротел уже в победный час!
Вот почему война нам часто снится:
Она стреляла в нерождённых — нас.
1975 г.
Ты уехала в город Одессу.
Стынь стояла за тёмным окном.
Шли машины, гружённые лесом,
От которых подрагивал дом.
Падал снег на авто, на бульвары,
На старушек, спешивших домой.
Падал снег на влюблённые пары
И на дворника с чёрной метлой.
Ты уехала в город Одессу,
Город северный мой разлюбя.
Посылаю проклятия бесу,
Что сманил на чужбину тебя.
Там потомки вождя Моисея,
Там весёлое племя живёт.
Люди там никогда не болеют,
Словом, там черноморский курорт.
Ты уехала в город Одессу,
Не простившись. Живи. Бог с тобой.
Не был в жизни я трусом, повесой,
Но, увы, далеко не герой.
Потому я сегодня невесел,
Что не быть никогда нам вдвоём.
Ах, зачем тебе эта Одесса?
Пусть горит она синим огнём…
Я долго молчал
Не потому,
Что нечего мне сказать.
Я долго болел
Не потому,
Что так уж люблю хворать.
Я долго не пел
Не потому,
Что не было петь причин.
Я долго не жил
Не потому,
Что каждодневно ловчил.
Я молча страдал
Не потому,
Что был толстокож и глуп.
Я долго копил
Слов немоту
В вулкане замкнутых губ.
1987 г.
Январь нас удивил. Ну что же за погода?
Без зонтика не выйдешь никуда.
Дорогу перейти туда-сюда —
Спасенья нету нам от гололёда.
Играет шутки над людьми природа…
Конечно, небольшая в том беда,
Что тает снег, на улицах — вода
И льёт холодный первый дож дик года.
Но, как всегда, привычно мы виним
Жестокий век, браним бюро прогноза,
А, в сущности, ведь малого хотим.
Хотим обыкновенной прозы:
Пусть в январе приходят к нам морозы
И снег летит, морозами храним.
«Друзья уходят друг за другом…»
Памяти Николая Голицына, радиожурналиста
Друзья уходят друг за другом.
И меркнет солнце, липнет грязь.
А смерть-старуха, словно плугом,
По жизням пашет, торопясь.
Она внезапна, как стихия,
В затылок дышит мудрецам.
Когда пишу тебе стихи я,
Она скребётся по сердцам.
Ушёл мой друг в немые дали,
Голицын Коля-Николай.
Уста навеки замолчали.
Прощай, товарищ мой, прощай!
Остался голос твой на плёнках
Да в душах тех, кого любил,
И память — в северных посёлках,
Где ты с людской печалью жил.
Делил ты радости и горе
С Россией, матушкой-страной.
А над землёй восходят зори
Уж без тебя. Прости, друг мой.
2003 г.
Я собою недоволен,
Потому что дико болен.
Тут болит и там болит,
Настоящий инвалид!
Доктор, «скорая», больница,
Порошки, таблетки, шприцы,
Процедурный кабинет —
Дурость есть, здоровья нет.
Осмотрел меня профессор,
Обозвал тупым балбесом:
Если куришь, водку пьёшь,
То свой век не проживёшь.
Срок отпущен индивиду
Нашим Господом для виду.
Ни при чём тут будет Бог,
Если сам скостил ты срок.
Для того ума не надо,
Коли ешь ты тонны яда,
Коли дышишь ты угаром,
Ешь за деньги, дышишь даром.
Если хочешь жить до ста,
Будь же тощим, как глиста.
2004 г.
1
На тризне горбачёвской перестройки,
Когда народ гулял у винной стойки,
Когда в стране царил сплошной бардак
И демократы одолели коммуняк,
Один сообразительный мужчина —
Ядрёный грузчик зоомагазина,
Что силой был мужской не обделён,
Решил открыть для милых дам салон.
А проще, объясняя это дело,
Стал торговать своим мужицким телом.
И звали мужика Егор Коровьев.
Собрал он справки о своём здоровье.
Медсёстрам показал такую дыньку,
Что отдали бы жизнь за половинку.
И долго, долго жал Егору руку мэр
За этот героический пример,
Уж видя наперёд: налоговые сборы
Полезут в гору от трудов Егора.
2
И дело сразу двинулось отменно:
Шли очередью жёнки бизнесменов.
Какая жизнь у них, у бизнесменш?
Крутой — в разъездах. С кем попьёшь, поешь?
А там, глядишь, кого-то подстрелили,
Кому-то что-то за уши зашили,
Тот улетал в Канары, а попал на нары…
Ну как перенести судьбы удары?
Коль женская, прости её Господь,
Томясь, по мужику тоскует плоть.
Егор Коровьев только торжествует,
Ведь у него не капает, не дует:
Два выходных и отпуск — сорок дней,
Налоги платит Родине своей!
Живёт — как кот, охраной обзавёлся,
Но вот однажды чуть не «прокололся».
3
Сосед Егора — Фима Карандашкин,
Фотограф хилый с пьяною мордашкой,
Завидовал коровьевскому «делу»,
Но вот не вышел ни балдою и ни телом.
Подслушивал он за стеной ночною
Всю эту вахканалию «коровью».
И представлял он женщин, пьющих вина,
И сердце Фимы билось о штанины.
Он долго, долго думал о Егоре,
Готов был утопить вражину в море,
А то и замочить навек в сортире,
Да смелости не дал Господь задире.
И вот однажды видит Фима сон:
Заходит он в коровьевский салон.
Там тёлочки мордасты, словно жабы,
И ни одной нет настоящей бабы.
Оцепенел вмиг Фимка Карандашкин,
Чуть не хватила, бедного, кондрашка.
На улицу он выскочил как пуля,
Погоню сразу за собой почуя.
За ним скакал Егор в бычачьей шкуре,
Рога — ножи, в глазах — кровава буря.
И так боднул фотографа облом,
Что Фима наш проснулся под столом.
4
Виденье это Фимку рассердило,
И мысль шальная дурня осенила.
Он к телефону подскочил, как рысь,
И номерок набрал: «Егор, держись!
Теперь, конечно, не советска эра,
Но позвоню-ка я супруге мэра!»
Мол, так и так, у нас в квартире пять
Сегодня презентация опять.
Портрет Петра (в чём мама родила)
Соседу моему цыганка продала.
Событие в историю войдёт,
А кто же речь-хвалу произнесёт?
Наш мэр в отъезде. Вам бы к нам прибыть,
И с нами вместе кубок пригубить…
А мэрша между тем была мила
И обожала важные дела.
А Пётр Великий был её кумиром,
Как все цари, что управляли миром.
5
В квартире пять, посля трудов недельных,
Скучал Егор. И вдруг звонок в передней.
Пошёл. Открыл. И ахнул: во двери
Пред ним — супруга мэра, Мэрия-Мари!
— Любезнейший! Привет тебе, привет!
Пришла я посмотреть на царственный портрет.
Наслышана, что гол, как огурец,
Ну, покажите мне его вы, наконец!
6
Вопрос Мари Егора ввёл в смятенье,
Зачем ему подобное волненье?
Понравится ли мэру сей пассаж,
Когда он мэрше сделает массаж?
Но просьба гостьи как приказ была.
Мари, как мотылёк, на огонёк плыла.
Плыла в Егорьев спальный кабинет,
Где на стене висел «царя» портрет,
Работа Фимы: «Он, как дуб, стоял,
Колени спрятав в складках одеял».
То был портрет Егора самого —
И между ног торчало о-го-го.
Мари, взглянув на чудо, застонала
И на кровать Коровьева упала…
И только утром после кофеёчка
Вздохнула томно: «Что была за ночка?!»
7
А Фимка Карандашкин не внакладе,
Он, как фотограф, нынче на окладе.
Коровьеву — надёжная опора:
Рекламное бюро возглавил у Егора.
А коль клиенток много, вместе с ним
Торгует телом и хитрец Ефим.
2001 г.