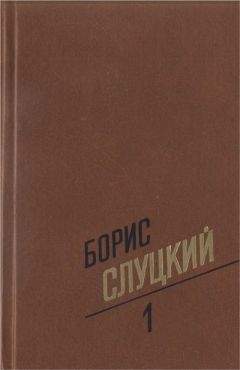«Черта под чертою. Пропала оседлость…»
Черта под чертою. Пропала оседлость:
шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
Он вылетел в трубы освенцимских топок,
мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный дым.
А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
и в будни, когда он сидел в дураках,
стянув пояса или брови нахмуря.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
Планета! Хорошая или плохая,
не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю немного. Я знаю одно:
планета сгорела до пепла давно.
Сгорели меламеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
сгорели, утопли в потоках летейских,
исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
Торопливо взглядывая на небо,
жизнь мы не продумывали наново:
облака так облака.
Слишком путь-дорога далека.
Поглядим — и вновь глаза опустим,
пожуем коротенький смешок
и ремень какой-нибудь отпустим:
слишком врезался в плечо мешок.
Небо — было. Это, в общем, помнили.
Знали! И не приняли в расчет.
Чувствовали. Все-таки не поняли.
Нечет предпочли ему и чет.
Где-то между звездами и нами,
где-то между тучами и снами
случай плыл и лично все решал
и собственноручно совершал.
Круги на воде:
здесь век затонул.
Я — круг на воде.
Кольца на пне:
год прошел.
Я — кольцо на пне.
Круги в глазах:
пробил миг.
Я кружусь в глазах.
Круги на бумаге:
это мишень.
Пуля войдет в меня.
Неча фразы
подбирать.
Лучше сразу
помирать:
выдохнуть
и не вдохнуть,
не вздохнуть, не охнуть,
линию свою догнуть,
молчаливо сдохнуть.
Кончилось твое кино,
песенка отпета.
Абсолютно все равно,
как опишут это.
Все, что мог, — совершено,
выхлебал всю кашу.
Совершенно все равно,
как об этом скажут.
И при виде василька
и под взглядом василиска
говорил, что жизнь — легка,
радовался, веселился,
улыбался и пылал.
Все — с улыбочкой живою.
Потерять лицо желал
только вместе с головою.
И, пойдя ему навстречу,
в середине бодрой речи,
как жужжанье комара,
прервалась его пора,
время, что своим считал…
Пять секунд он гаснул, глохнул,
воздух пальцами хватал —
рухнул. Даже и не охнул.
«Как жалко он умирал! Как ужасно…»
Как жалко он умирал! Как ужасно.
Как трогательно умирал. Как опасно
для веры в людей, в их гордость и мощь.
Как жалобно всех он просил помочь.
А что было делать? Что можно сделать —
все было сделано. И он это знал.
Прося тем не менее куда-то сбегать,
он знал: ни к чему — и что он: умирал.
А мы ему лучших таблеток для снов,
а мы ему — лучших пилюль от боли,
соломинок, можно сказать, целый сноп,
да что там сноп — обширное поле
ему протягивали. Он цеплялся.
Его вытягивали из нескольких бездн,
а он благодарствовал, он умилялся,
вертелся волчком, как мелкий бес.
А я по старой привычке школьной,
не отходя и сбившись с ног,
в любой ситуации, даже невольной,
старался полезный черпнуть урок.
— Не так! С таблетками ли, без таблеток,
но только не так, не так, не эдак.
Я даже не набрался,
когда домой вернулся:
такая наша раса —
и минусы и плюсы.
Я даже не набрался,
когда домой добрался,
хотя совсем собрался:
такая наша раса.
Пока все пили, пили,
я думал, думал, думал.
Я думал: или-или.
Опять загнали в угол.
Вот я из части убыл.
Вот я до дому прибыл.
Опять загнали в угол:
с меня какая прибыль?
Какой-то хмырь ледащий
сказал о дне грядущем,
что путь мой настоящий —
в эстраде быть ведущим
или в торговле — завом,
или в аптеке — замом.
Да, в угол был я загнан,
но не погиб, не запил.
И вот, за века четверть
в борьбе, в гоньбе, в аврале,
меня не взяли черти,
как бы они ни брали.
Я уцелел
Я одолел.
Я — к старости — повеселел.
Долголетье исправит
все долги лихолетья.
И Ахматову славят,
кто стегал ее плетью.
Все случится и выйдет,
если небо поможет.
Долгожитель увидит
то, что житель не сможет.
Не для двадцатилетних,
не для юных и вздорных
этот мир, а для древних,
для эпохоупорных,
для здоровье блюдущих,
некурящих, непьющих,
только в ногу идущих,
только в урны плюющих.
Чем хорош Гулливер? Очевидным, общепонятным
поворотом судьбы? Тем, что дал он всемирный пример?
Нет, не этим движением, поступательным или попятным,
замечателен Гулливер.
Он скорее хорош тем, что, ветром судьбины гонимый,
погибая, спасаясь, погибнув и спасшись опять,
гнул свое!
Что ему там ни ржали гуингнмы,
как его бы ни путала лилипутская рать.
Снизу вверх — на гиганта,
сверху вниз — на пигмея
глядя,
был человеком всегда Гулливер,
и от счастья мужая,
и от страха немея,
предпочел навсегда
человеческий только
размер.
Мы попробовали
микрокосмы и макрокосмы,
но куда предпочтительней —
опыт гласит и расчет —
золотого подсолнечника
желтые космы,
что под желтыми космами
золотого же солнца
растет.
Старики много думают: о жизни, смерти,
болезни, —
великие философы, как правило, старики.
Между тем естественнее и полезней
просто стать у реки.
Все то, что в книгах или религии
и в жизненном опыте вы ни нашли,
уже сформулировали великие
и малые реки нашей земли.
Соотношенье воды и суши
мышленью мощный дает толчок.
А в книгах это сказано суше,
а иногда и просто — молчок.
Береговушек тихие взрывы
под неосторожной ногой,
вялые лодки, быстрые рыбы
или купальщицы промельк нагой —
все это трогательней и священней
мыслей упорных, священных книг
и очень годится для обобщений,
но хорошо даже без них.
Екатерининский солдат,
он, словно рубль елизаветинский,
до блеска он надраен, так,
что на ходу звенит и светится.
Звенит суворовским штыком,
блестит ружьем своим старинным
и медью пуговиц. Таков
солдат времен Екатерины.
Екатерининский солдат,
не спрашивая у грядущего,
идет, куда ему велят,
в затылке впереди идущего.
И укрощая варшавян,
освобождает он миланца,
и прет вперед, толков и рьян,
согнувшись под нагрузкой ранца.
Мила мне выправка его,
пудовая обидна выкладка.
Не пожелаю ничего
другого, только б видеть вылазку
его сквозь Альпы! Прямо вниз!
Его прыжок французу на голову!
Его, прекрасного и храброго!
Примстись, суворовец!
Приснись!